|
Энн Райс Вампир Арман
|
|
|
GolDiVampire |
Дата: Среда, 09 Май 2012, 01:54 | Сообщение # 31 |

Клан Эсте/Эрц-герцогиня Фейниэль/Мисс Хогсмит 2014

Новые награды:
Сообщений: 2778
Магическая сила:












| - Приди кто угодно, демон, ангел, останови его, ну приходи из тьмы, мне все равно, кем ты будешь, лишь бы у тебя хватило сил и мстительности, мне все равно, кто ты, выйди из света, приди по воле богов, не терпящих жестоких мерзавцев. Останови его, пока он не убил мою Сибель. Останови его, тебя вызывает Бенджамин, сын Абдуллы, возьми в залог мою душу, возьми мою жизнь, но приходи, приходи, у тебя больше сил, чем у меня, спаси мою Сибель.
- Тихо! - заорал я.
Я задыхался. У меня взмокло лицо. У меня безудержно дрожали губы.
- Что тебе нужно, говори!
Он посмотрел на меня. Он меня увидел. Его круглое византийское личико словно чудесным образом сошло с церковной фрески, но он был здесь, он был настоящий, он увидел меня, и именно меня он и хотел увидеть.
- Смотри, ты, ангел! - закричал он обострившимся от арабского акцента юным голосом.
- Раскрой пошире свои большие прекрасные глаза!
Я посмотрел. До меня мгновенно дошла суть происходящего. Она, молодая женщина, Сибель, сопротивлялась, цепляясь за пианино, не давая стащить себя с табурета, стараясь достать пальцами клавиши, плотно сжав рот, хотя через стиснутые губы прорывался ужасный стон; над плечами летали золотистые волосы. Ее тряс мужчина, тянул ее, орал на нее и внезапно сильно ударил ее кулаком, так что она упала назад, через табурет, перевернувшись через голову - нескладный клубок рук и ног на покрытом ковром полу.
- "Апассионата", "Апассионата", - ревел он, настоящий медведь, темперамент под стать мании величия. - Не буду я слушать, не буду, не буду, отвяжись от меня, от моей жизни. Это моя жизнь! - Он ревел, как бык. - Хватит, поиграла!
Мальчик подпрыгнул и схватил меня. Он сжал мои руки, а когда я уставился на него в недоумении и стряхнул его, он вцепился в мои бархатные манжеты.
- Останови его, ангел. Останови его, дьявол! Сколько можно ее бить! Он же ее убьет. Останови его, дьявол, останови, она же хорошая!
Она встала на колени и поползла, скрывая лицо вуалью спутанных волос. Сбоку на талии виднелось большое пятно подсохшей крови - пятно, глубоко въевшееся в ткань с цветочными узорами. Я в возмущении следил, как мужчина отходит. Высокий, бритоголовый, с налившимися кровью глазами, он заткнул уши руками и осыпал ее ругательствами:
- Ненормальная, тупая стерва, ненормальная, спятившая стерва, эгоистка. Мне что, жить нельзя? Нельзя жить по справедливости? У меня что, своих желаний нет?
Но она опять раскинула руки над клавишами. Она устремилась прямо ко второй части "Апассионаты", словно ее никто и не прерывал. Ее руки ударяли по клавишам. Один неистовый залп нот за другим, как будто их написали с одной только целью - ответить ему, бросить ему вызов, выкрикнуть: я не прекращу, не прекращу… Я видел, что сейчас будет. Он обернулся и окинул ее злобным взглядом, лишь для того, чтобы довести свою ярость до предела, он широко раскрыл глаза, рот исказился в гримасе боли. На губах заиграла смертельно опасная улыбка. Она раскачивалась на табурете взад-вперед, ее волосы летали в воздухе, лицо приподнялось, ей не приходилось смотреть на клавиши, управлять движением рук, перебегавших справа налево, ни разу не потерявших управление потоком. Из-за ее плотно сжатых губ послышались тихие звуки, отшлифованные звуки - она напевала мелодию, струящуюся из-под клавиш. Она выгнула спину и опустила голову, ее волосы упали на разбегающиеся руки. Она продолжала, она перешла к грому, к уверенности, к отказу, к вызову, к утверждению - да, да, да, да. Мужчина сделал шаг в ее направлении. Обезумевший мальчик в отчаянии бросил меня и метнулся между ними, но мужчина двинул его сбоку с таким бешенством, что мальчик растянулся на полу. Но не успели руки мужчины опуститься на ее плечи - а она уже опять перешла к первой части, "Апассионата" в самом разгаре, как я схватил его и развернул лицом к себе.
- Убьешь ее, да? - прошептал я. - Что ж, посмотрим.
- Да! - воскликнул он, по лицу лился пот, блестели выпуклые глаза. - Убью! Она раздражает меня до безумия, она меня с ума сводит, все она, и она умрет!
Слишком взбешенный, чтобы хотя бы удивиться моему присутствию, он попытался оттолкнуть меня в сторону и вновь пристально уставился на нее.
- Черт тебя подери, Сибель, прекрати эту музыку, прекрати!
Мелодия и аккорды опять достигли громового темпа. Откидывая волосы из стороны в сторону, она ринулась в атаку. Я оттолкнул его, схватил левой рукой за плечо, правой сдвинул подбородок наверх, чтобы не мешался, и уткнулся лицом в его горло, разорвал его и глотнул полившуюся мне в рот кровь. Она оказалась обжигающей, густой, полной ненависти, полной горечи, полный разбитых надежд и мстительных фантазий. Какая же она была горячая. Я пил ее глубокими глотками и все видел - как он любил ее, лелеял ее, ее, талантливую сестренку, он, ловкий, злой на язык брат, кому медведь на ухо наступил, как он вел ее к вершине своей драгоценной и рафинированной вселенной, пока общая трагедия не оборвала ее восхождение и не заставила ее, обезумевшую, отвернуться от него, от воспоминаний, от амбиций, и навеки запереться в траур по жертвам трагедии, по любящим, рукоплескавшим родителям, погибшим на извилистой дороге, ведущей через далекую темную долину, в одну тех самых ночей, что предшествовали ее величайшему триумфу, дебюту гениальной пианистки на глазах всего мира. Я увидел, как их машина тяжело, с грохотом неслась в темноте. Я услышал, как болтал брат на заднем сиденье, пока сестра крепко спала. Я увидел как эта машина врезалась в другую машину. Я увидел звезды, жестоких и безмолвных свидетелей. Я увидел израненные, безжизненные тела. Я увидел ее потрясенное лицо - она стояла, целая и невредимая, в порванной одежде, на обочине. Я услышал, как он кричал от ужаса. Я услышал его неверящие проклятья. Я увидел разбитое стекло. Повсюду - разбитое стекло, блестящая красота под фарами. Я увидел ее глаза, ее бледные голубые глаза. Я увидел, как закрылось ее сердце. Моя жертва была мертва. Он выскользнул из моих рук. В нем осталось столько же жизни, что и в его родителях в том жарком пустынном месте. Он был мертв, скомкан, он больше не сможет обидеть ее, дергать ее длинные золотые волосы, бить ее или останавливать ее музыку. В комнате воцарилась приятная тишина, если не считать ее игры. Она опять добралась до третьей части и мягко покачивалась в такт его более спокойному началу, вежливому, размеренному шагу. Мальчик затанцевал от радости. Настоящий арабский ангел, он подпрыгивал в воздух в своей изящной маленькой джеллабе, босоногий, с покрытой густыми черными кудрями головой, он танцевал и выкрикивал:
- Умер, умер, умер, умер! - Он хлопал в ладоши, потирал руки и снова хлопал, а потом воздевал их к небу. - Умер, умер, умер, он больше ее не тронет, он больше не взбесится, он за свое бешенство получил, он умер, умер, умер.
Но она его не слышала. Она продолжала играть, пробираясь через сонные низкие ноты, тихо напевая про себя, а потом раскрыла губы и запела песню на одном звуке. Меня переполняла его кровь. Я чувствовал, как она омывает меня изнутри. Я наслаждался ей, наслаждался каждой каплей. Я перевел дух, поскольку проглотил ее слишком быстро, а затем медленно, как можно тише, словно она могла меня услышать, хотя на самом деле, конечно, не могла, я подошел, встал у края пианино и посмотрел на нее. Что за маленькое хрупкое лицо, совсем детское, с глубоко посаженными огромными бледно-голубыми глазами. Но смотри, какие на нем синяки. Смотри, на щеке - кроваво-красные шрамы. Смотри, на виске - скопление крошечных кровоточащих ранок, напоминающих булавочные уколы, здесь к корнем вырвали целую прядь волос. Ей было все равно. Зеленовато-черные синяки на голых руках для нее не имели значения. Она продолжала играть. Какая нежная шея, пусть на ней и сохранились распухшие чернеющие отпечатки его пальцев, какие грациозные худенькие плечи, на них едва держатся рукава ее тонкого хлопчатобумажного платья. Ее сильные пепельные брови сошлись на переносице - она очаровательно хмурилась от сосредоточенности, глядя ни на что иное, как на быструю живую музыку, и только длинные чистые пальцы выдавали ее титаническую, неодолимую силу. Она скользнула по мне взглядом и улыбнулась, как будто увидела что-то мимолетно приятное; она наклонила голову один, два, три раза в такт быстрому темпу музыки, но складывалось такое впечатление, будто она кивнула мне.
- Сибель, - прошептал я.
Я приложил пальцы к губам, поцеловал их и послал ей воздушный поцелуй, а ее руки строем двинулись дальше. Но потом ее взгляд затуманился, она опять отключилось, поскольку эта часть требовала скорости, и ее голова откинулась назад от мощной атаки по клавишам. И к Сонате опять вернулась самая торжествующая жизнь. Мной завладело что-то более могущественное, чем солнечный свет. Это была настолько тотальная сила, что она окружила меня целиком и высосала из комнаты, из мира, из звуков ее музыки, из моего собственного сознания.
- Нет, не надо меня забирать! - закричал я.
Но звук утонул в необъятной пустой черноте. Я летел в невесомости, раскинув обгорелые черные руки и ноги, и горел от мучительной пытки, как в аду. Не может быть, это не мое тело, всхлипнул я, увидев, как впечаталась в мышцы черная плоть, похожая на кожу, увидев, что каждое сухожилие моих рук, моих ногтей свернулось и почернело, как роговой нарост. Нет, не мое тело, плакал я, мама, помоги мне, помоги! Бенджамин, помоги мне… Я начал падать. Теперь никто не поможет мне, только Он.
- Господи, придай мне мужества, - кричал я. - Господи, если это начало, то дай мне мужество, Господи, я не могу отказаться от рассудка, Господи, дай мне понять, где я, Господи, дай мне понять, что происходит, Господи, где же церковь, Господи, где же хлеб и вино, Господи, где она, Господи, помоги мне, помоги.
Я падал все ниже и ниже, мимо стеклянных шпилей, мимо сеток слепых окон. Мимо крыш домов и остроконечных башен. Я падал сквозь резкий и дико воющий ветер. Я падал сквозь колючий ливень снега. Я падал, падал. Я пронесся мимо окна, где безошибочно различил фигуру Бенджамина, державшегося рукой за занавеску, на долю секунды в меня впились его черные глаза, и он открыл рот, крошечный арабский ангел. Я падал ниже и ниже, кожа съеживалась и сжималась на ногах, я уже не мог их согнуть, сжималась на лице, и я уже не мог открыть рот, и с мучительным взрывом саднящей боли я ударился о жесткий наст снега. Мои открытые глаза затопил огонь. Солнце окончательно встало.
- Сейчас я умру. Умру! - прошептал я. - И в последний момент жгучего паралича, когда исчез весь мир, когда ничего не осталось, я слышу ее музыку! Я слышу заключительные аккорды "Апассионаты". Я слышу ее. Я слышу ее возбужденную песню.
20
Я не умер. Отнюдь. Я проснулся от звуков ее игры, но и она, и пианино находились слишком далеко. В первые несколько сумеречных часов я пользовался звуками ее музыки, пользовался возможностью искать их, чтобы удержаться от безумных криков, потому что ничем не мог остановить эту боль. Скованный глубоким снегом, я не мог двигаться и не мог ничего увидеть, если не считать мысленного зрения, если я решу им воспользоваться, но, так как я мечтал умереть, я ничем не пользовался. Я только слушал, как она играет "Апассионату", и иногда во сне я подпевал ей. Я слушал ее всю первую ночь, и вторую, то есть, все моменты, когда она была расположена играть. Она могла прерваться на несколько часов, может быть, шла спать. Потом она начинала заново, и я начинал вместе с ней. Я следовал трем ее частям, пока не выучил их, как она сама, наизусть. Я познакомился с вариациями, которые она вплетала в музыку; я понял, что она никогда не повторяла ни одну музыкальную фразу дважды. Я слушал, как меня зовет Бенджамин, я слушал, как говорит его резкий голосок, очень по-нью-йоркски:
- Ангел, ты с нами еще не закончил, что нам с ним делать? Ангел, вернись, я дам тебе сигарет. У меня полно отличных сигарет. Вернись. Ангел, я пошутил. Я знаю, ты сам достанешь себе сигареты. Но меня правда бесит, что ты оставил нам покойника, Ангел. Вернись.
Иногда я не слышал их часами. У меня не хватало сил найти их телепатически, увидеть их глазами друг друга. Нет. Эта сила исчезла. Я лежал в немой неподвижности, сгорая не только от солнца, но и от всего, что мне довелось видеть и чувствовать, раненый, пустой, мертвый умом и сердцем, за исключением моей к ним любви. Очень просто, не правда ли, в самом черном горе полюбить двух совершенно незнакомых людей, сумасшедшую девушку и озорного уличного мальчишку, ухаживавшего за ней? Убийство ее брата не имело своей истории. Браво - и все кончено. У всего остального, что причиняло мне боль, была история длиной в пятьсот лет.
Наступали часы, когда со мной говорил только город, огромный гремящий, грохочущий, шелестящий город Нью-Йорк, с вечно лязгающим, несмотря на глубочайшие сугробы, транспортом, с нагромождением слоев голосов и жизней, достигающих той возвышенности, где лежал я, возвышающихся над ним, высоко над ним в башнях, которых до настоящего времени мир и не видывал. Я узнавал разные вещи, но не знал, что с ними делать. Я знал, что укрывший меня слой снега стал еще глубже, еще тверже, и не понимал, как такая вещь, как лед, может уберечь меня от солнечных лучей. Конечно, я должен умереть, думал я. Если не сегодня, когда встанет солнце, то завтра. Я вспоминал, как Лестат поднял покрывало. Я вспоминал его лицо. Но рвение покинуло меня. Покинула и всякая надежда. Я умру думал я. Каждое утро я думал, что умру. Но не умирал. Внизу, в далеком городе, я слышал других представителей нашей породы. Я не старался услышать их специально, поэтому до меня долетали не мысли их, но отдельные фразы. Там были Лестат и Дэвид, Лестат и Дэвид считали меня мертвым. Лестат и Дэвид меня оплакивали. Но Лестата преследовали куда более страшные кошмары, потому что Дора, а с ней - и весь мир забрали покрывало, и город теперь наводнили верующие. Собору с трудом удавалось контролировать толпу. Приходили и другие бессмертные, молодые, слабые, и, что самое жуткое, очень древние; желая рассмотреть это чудо, они проскальзывали в церковь ночью среди смертных верующих и безумными глазами взирали на покрывало. Иногда они говорили о бедном Армане, или о храбром Армане, или о Святом Армане, кто, в своей преданности распятому Христу сгорел заживо на самом пороге церкви! Иногда они поступали так же, как я. И в тот момент, когда солнце уже вот-вот готовилось встать, мне приходилось их слушать, слушать их последние отчаянные молитвы в ожидании смертоносного света. Справились ли они лучше, чем я? Нашли ли они убежище в объятьях Бога? Или они кричали в агонии, в агонии, которую переживал я, не вынося ожогов и не имея возможности вырваться, останки в переулках или на далеких крышах? Нет, они приходили и уходили, какой бы ни была их судьба. Как все это было бледно, как далеко. Я так переживал, что Лестат нашел время оплакивать меня, но мне суждено умереть. Рано или поздно я все равно умру. Что бы я ни увидел в тот момент, когда я поднялся к солнцу, все утратило смысл. Мне предстояло умереть. Вот и все. Пронзая снежную ночь, электронные голоса вещали о чуде, о том, что лик Христа на льняном покрывале исцеляет больных и оставляет отпечаток, если к нему приложить другую ткань. Дальше следовали споры священников и скептиков, настоящий гул. Я не искал смысла. Я мучился. Я горел. Я не мог открыть глаза, а если пытался, ресницы царапали их, и становилось невыносимо больно. Я ждал ее в темноте. Рано или поздно неизменно начинала звучать ее потрясающая музыка, с новыми, чудесными вариациями, и тогда я ни о чем не задумывался - ни о тайне моего местонахождения, ни о том, что намерены делать Лестат и Дэвид. Только на седьмую, кажется, ночь, мои органы восприятия окончательно восстановились, и тогда я понял весь ужас моего положения. Лестат ушел. Дэвид тоже. Церковь заперли. Из бормотания смертных вскоре стало ясно, что покрывало увезли. Я слышал мысли всего города, невыносимый гул. Я отгородился от него, опасаясь, что, поймав хотя бы одну искру моей телепатии, какой-нибудь бессмертный бродяга решит меня приютить. Я не вынес бы и мысли о том, что бессмертные незнакомцы попытаются меня спасти. Я не вынес бы и мысли об их лицах, их расспросах, возможном участии или безжалостном равнодушии. Я скрывался от них, свернувшись в своей потрескавшейся, натянувшейся коже. Но я все равно их слышал, как слышал окружающие их смертные голоса - они говорили о чудесах, искуплении и любви Христа. Кроме того, мне было о чем подумать - о моем затруднительном положении и о том, как все получилось. Я лежал на крыше. Я оказался там в результате падения, но не под открытым небом, как я надеялся - или предполагал. Напротив, мое тело свалилось с покатого металлического листа и укрылось под рваным, ржавым навесом, где его неоднократно засыпало заметенным ветром снегом. Как я сюда попал? Можно было только догадываться. По собственной воле, с первым взрывом моей крови на утреннем солнце, я поднялся вверх, наверное, на максимально доступное мне расстояние. Веками я знал, как взбираться на воздушные высоты и передвигаться на них, но никогда не доходил до теоретически возможного предела, однако в моем ревностном стремлении к смерти я напряг все силы, чтобы взлететь к небесам. Упал я с величайшей высоты. Подо мной находилось пустое, брошенное, опасное здание, без отопления и без света. Ни звука не доносилось со стороны его полых металлических лестничных пролетов или раздолбанных, рассыпающихся комнат. Только ветер подчас играл на здании, как на гигантском органе, и когда Сибель покидала свое пианино, я слушал эту музыку, изгоняя насыщенную какофонию окружавшего меня сверху, снизу и со всех сторон города. Иногда на нижние этажи здания заползали смертные. Я проникался внезапными извращенными надеждами. Может быть, кто-то достаточно глуп, чтобы забрести на крышу и попасть к мои руки, чтобы я выпил кровь, необходимую хотя бы для того, чтобы освободиться и выползти из-под защищавшего меня навеса и тем самым отдаться солнцу? В настоящем же положении солнце едва меня достает. Только тускло-белый свет царапал меня сквозь окутывавший меня снежный саван, и каждую удлиняющуюся ночь новая боль сливалась с прежней. Но сюда никто никогда не заходил. Смерть будет медленной, очень медленной. Может быть, ей придется подождать, пока не потеплеет и не растает снег. Поэтому каждое утро, мечтая о смерти, я постепенно осознавал, что проснусь, наверное, еще больше обгоревшим, чем раньше, но и глубже укрытым зимней метелью, все это время скрывавшей меня от сотен освещенных окон, выходивших сверху на эту крышу. Когда наступала мертвая тишина, когда Сибель спала, а Бенджи прекращал молиться мне и разговаривать со мной у окна, начиналось самое худшее. Холодными, апатичными, рваными мыслями я думал о странных вещах, приключившихся с мной, пока я падал сквозь воздушную бездну, потому что все остальное не шло мне в голову. Ведь все было удивительно реально - алтарь Софийского собора, преломляемый хлеб. Я столько всего узнал, но ничего не мог вспомнить, не мог облечь в слова, и сейчас, диктуя это повествование, я не смог бы членораздельно восстановить эту историю, даже если бы попытался. Реально. Осязаемо. Я чувствовал на ощупь покровы алтаря, видел, как пролилось вино, а еще раньше - как из яйца поднялась птица. Я слышал, как трещит скорлупа. Я слышал голос матери. И все остальное. Но моему разуму эти вещи были больше не нужны. Просто не нужны. Рвение мое на поверку оказалось хрупким. Оно ушло, ушло, как ночи, проведенные с моим господином в Венеции, ушло, как годы странствий с Луи, ушло, как праздничные месяцы на Острове Ночи, ушло, как долгие позорные столетия Детей Тьмы, когда я был дураком, настоящим дураком. Я мог думать о покрывале, я мог думать о небесах, я мог вспоминать, как стоял у алтаря и своими руками творил чудо с телом Христа. Да, мог. Но все в совокупности было слишком ужасно, я не умер, никакой Мемнок не умолял меня стать его помощником, никакой Христом не простирал ко мне рук на фоне бесконечного света Господа. Намного приятнее было думать о Сибель, вспоминать, что ее комната с ярко-красными и синими турецкими коврами и покрытыми темным лаком непропорционально большими картинами была ничуть не менее реальна, чем киевский Софийский собор, думать о ее бледном овальном лице, повернувшемся взглянуть на меня, думать, как внезапно загорелись ее влажные, быстрые глаза. Как-то вечером, когда мои глаза по-настоящему открылись, когда мои веки действительно поднялись над глазными яблоками и увидел над собой белую ледяную корку, я осознал, что начал исцеляться. Я попытался согнуть руки. Я смог приподнять их, чуть-чуть, и сковывающий меня лед дрогнул с чрезвычайно необычным электрическим звуком. Солнце никак не могло сюда добраться, или же ему не хватало места бороться со сверхъестественно яростной, могущественной кровью, содержащейся в моем теле. О Господи, только подумать - пятьсот лет набираться сил, прежде всего, родиться от крови Мариуса, с самого начала быть настоящим монстром, так и не подозревая о собственной силе. В тот момент мне казалось, что моей злости и моему отчаянию наступил предел. Казалось, что раскаленная боль во всем теле достигла своего пика. Потом заиграла Сибель. Она начала "Апассионату", и мне стало все равно. Мне было все равно, пока не прекратилась музыка. Ночь выдалась теплее, чем обычно; снег слегка подтаял. Казалось, поблизости нет никаких бессмертных. Я знал, что покрывало перевезли в Ватикан. И какой теперь смысл приходить сюда бессмертным? Бедная Дора. В вечерних новостях говорили, что у нее забрали ее добычу. Покрывало должен был исследовать Рим. Ее рассказы о странных светловолосых ангелах стали достоянием бульварной прессы, а сама она уехала. В определенный момент я осмелился зацепиться сердцем за музыку Сибель и, напрягая до боли голову, выслать вперед свое телепатическое зрение, как часть тела, как язык, требующий выносливости, чтобы посмотреть глазами Бенджамина на комнату, где они обитали вдвоем. Я увидел ее в приятном золотистом тумане, увидел стены, покрытые тяжелыми картинами в рамах, увидел мою красавицу в шерстистом белом платье, в рваными тапочках, ее пальцы продолжали трудиться. А Бенджамин, маленький непоседа, нахмурившись, попыхивая черной сигареткой, сцепив руки за спиной, расхаживал босиком их угла в угол, покачивая головой и бормоча про себя:
- Ангел, я же велел тебе, вернись!
Я улыбнулся. Шрамы на щеках болели так, словно их прорезали кончиком наточенного ножа. Я закрыл телепатический глаз. Под звуки быстрых крещендо я позволил себе замечтаться. К тому же Бенджамин что-то почувствовал; его ум, не покоробленный западной цивилизацией, заметил отблеск моего любопытства. Хватит. Потом ко мне пришло новое видение, очень резкое, очень необычное, очень непривычное, им нельзя было пренебрегать. Я еще раз повернул голову, лед треснул. Я держал глаза открытыми. Я видел неясное пятно возвышающихся надо мной освещенных башен. Внизу, в городе, обо мне думал какой-то бессмертный, он находился далеко, за много кварталов от закрытого собора. На самом деле, я мгновенно почувствовал вдалеке присутствие двух сильных вампиров, знакомых вампиров, вампиров, знавших о моей смерти и горько сожалевших о ней, выполняя какое-то важное дело. Здесь имелся определенный риск. Попробуй их увидеть - и они заметят намного больше, чем то, что не замедлил отметить Бенджамин. Но, насколько я понимал, в городе других вампиров сейчас не присутствовало, и нужно было узнать, что заставило их двигаться с такой целеустремленностью и с такой скрытностью. Прошел, наверное, час. Сибель молчала. Они, могущественные вампиры, продолжали заниматься своим делом. Я решил рискнуть. Я приблизил к ним свои бестелесные глаза и быстро осознал, что могу видеть одного глазами другого, но не наоборот. Причина была очевидна. Я напряг зрение. Я смотрел глазами Сантино, бывшего главы моего Римского Собрания, Сантино, а увидел я Мариуса, моего создателя, чьи мысли оставались скрытыми от меня навсегда. Они осторожно приближались к большому учреждению, оба одетые как современные джентльмены - в аккуратные темно-синие костюмы, вплоть до накрахмаленных белых воротничков и узких шелковых галстуков. Оба постриглись, отдавая дань моде служащих корпораций. Но направлялись они, вгоняя в безвредный транс каждого смертного, кто пытался им помешать, отнюдь не в корпорацию. А в здание медицинского вида. И я быстро догадался, по какому они пришли делу. Они бродили по городской лаборатории криминалистики. И хотя они не торопились набирать в тяжелые портфели документы, волнение заставляло их поскорее вытащить из холодильных установок останки тех вампиров, кто последовал моему примеру и сдался на милость солнца. Естественно, они занимались конфискацией материалов, какими располагал о нас мир. Они вычерпывали останки. Они перекладывали останки из похожих на гробы ящиков и с блестящих серебряных подносов в простые пластиковые пакеты. Целые кости, пепел, зубы, ну да, даже зубы - все сметали они в эти мешки. А дальше, из ящиков для картотеки, они извлекли образцы сохранившейся одежды. У меня заколотилось сердце. Я пошевелился во льду, и лед заговорил в ответ. Нет, успокойся, сердце. Это мои кружева, мои личные кружева, плотные венецианские кружева, обгоревшие на краях, и несколько обрезков фиолетово-красного бархата! Да, именно мои жалкие одежды достали они из пронумерованного отделения каталога и сунули в пакет. Мариус остановился. Я отвернулся, как головой, так и мысленно. Не смотри на меня. Стоит тебе увидеть меня, прийти сюда, и, клянусь Богом, я… Что? У меня нет сил даже пошевелиться. У меня нет сил скрыться. О, Сибель, пожалуйста, поиграй мне, мне нужно скрыться. Но потом, припомнив, что он - мой создатель, что он способен выследить меня только через более слабый и более одурманенный разум своего спутника, Сантино, я почувствовал, что мое сердце успокаивается. Из хранилища недавних воспоминаний я извлек ее музыку, я окружил ее цифрами, числами, датами, каждым из мелких детритов, пронесенных мной к ней сквозь века: что ее милый шедевр написал Бетховен, что он называется "Соната № 23, фа минор, опус 57”. Вот об этом и думай. Думай о вымышленной ночи в холодной Вене, вымышленной, поскольку на самом деле я в этом не разбирался, думай, как он писал музыку шумным, царапающим бумагу пером, звуков которого сам, наверное, не слышал. Думай, какие гроши ему платили. И думай с улыбкой, да, с болезненной режущей улыбкой, от которой по лицу течет кровь, как ему поставляли пианино за пианино - так мощно, так требовательно, так яростно бил он по клавишам. И какую подходящую дочь получил он в лице симпатичной Сибель - устрашающая сила ее ударов по клавишам наверняка привела бы его в восторг, доведись ему заглянуть в будущее и отыскать среди неистовых студентов и поклонников одну конкретную одержимую девушку.
Сегодня было теплее. Лед начал таять. В этом сомневаться не приходилось Я сжал губы и еще раз поднял правую руку. Теперь над ней появилась выемка, и я мог шевелить в ней пальцами. Но они не шли у меня из головы, невероятная пара - тот, кто создал меня, и тот, кто пытался его уничтожить, Мариус и Сантино. Я должен был вернуться. Я осторожно выслал слабый, пробный луч мысли. И через мгновение я их выследил. Они стояли перед сжигателем мусора в недрах здания и бросали в его жадную пасть все собранные ими улики, пакет за пакетом скручивался и потрескивал в пламени. Как странно. Разве им самим не хотелось посмотреть на эти фрагменты в микроскоп? Но другие представители нашего рода наверняка уже это проделывали, и зачем смотреть на кости и зубы тех, кто спекся в аду, если можно срезать с собственной руки бледную белую ткань и поместить срез на стекло, в то время как рука по волшебству исцелится, как исцеляюсь я даже в настоящий момент? Я не отпускал видение. Я увидел туманный подвал, где они стояли. Я увидел над их головами низкие балки. Собрав все силы для проекции взгляда, я увидел лицо Сантино, расстроенное, мягкое, лицо того, кто разбил вдребезги единственную выпавшую на мою долю юность. Я увидел, что мой бывший господин почти печально взирает на огонь.
- Кончено, - тихим властным голосом сказал Мариус своему спутнику, обращаясь к нему на безупречном итальянском языке. - Не представляю себе, что еще можно сделать.
- Взломать Ватикан и похитить покрывало, - ответил Сантино. - Какое право они имеют забирать такую вещь?
Я мог только наблюдать за реакцией Мариуса - за его внезапным потрясением и последующей вежливой сдержанной улыбкой.
- Зачем? - спросил он, словно не имел от него секретов. - Что нам до покрывала, друг мой? Ты считаешь, оно приведет его в чувство? Прости меня, Сантино, но ты еще так молод!
В чувство, приведет его в чувство. Значит, это про Лестата. Единственное возможное значение. Я решил зайти еще дальше. Я просмотрел мысли Сантино в поисках того, что было ему известно, и отшатнулся от ужаса, но увиденного не выпускал. Лестат, мой Лестат - ведь он никогда не был их Лестатом? - мой Лестат в результате обезумел из-за этой ужасной саги, и стал пленником древнейшей представительницы нашего рода, постановившей, что если он не прекратит мутить воду, подразумевая, естественно, тайну о нашем существовании, его уничтожат способом, доступным только старейшим, и никто не смеет умолять за него ни под каким предлогом. Нет, такого не может быть! Я извивался и ворочался. По моему телу бежали волны боли, красные, фиолетовые, пульсирующие оранжевым светом. С момента своего падения я не видел таких цветов. Рассудок возвращался ко мне, но что ему досталось? Лестата - уничтожат! Лестат в плену, как я сам, много веков назад, под Римом, в катакомбах Сантино. О Господи, это хуже, чем солнечный огонь, хуже, чем смотреть, как брат-подонок бьет Сибель по личику со сливовыми щеками и отталкивает ее от пианино, сбивая с ног. Но я нарвался на неприятности.
- Идем, пора выбираться отсюда, - сказал Сантино. - Что-то здесь не так, я что-то чувствую, но не могу объяснить. Такое впечатление, что с нами здесь кто-то еще, но его здесь нет. Такое впечатление, что равное мне по силе существо расслышало мои шаги за многие мили.
Мариус выглядел доброжелательным и любопытным, он совсем не встревожился.
- Нью-Йорк сегодня принадлежит нам, - легко сказал он. И со смутным страхом заглянул напоследок в печь.
- Если только дух, цепляющийся за жизнь, не держится за его бархат и кружева.
Я закрыл глаза. О Господи, как бы мне закрыть мысли! Захлопнуть поплотнее. Его голос не умолкал, пронзая раковину моего сознания в том месте, где она успела размягчиться.
- Но я никогда не верил в такие вещи, - сказал он. - Мы сами в некоторой степени как евхаристия, как ты думаешь? Будучи телом и кровью таинственного бога до того момента, пока держимся избранной нами формы. Что такое прядь рыжих волос и обрывки обожженных кружев? Его нет.
- Я тебя не понимаю, - мягко признался Сантино. - Но если ты считаешь, что я никогда его не любил, ты глубоко, глубоко заблуждаешься.
- Ну, пойдем, - сказал Мариус. - Дело сделано. Все следы стерты. Но обещай мне от всей своей старинной Римской Католической души, что не отправишься на поиски покрывала. Миллион пар глаз смотрели на нее, Сантино, и ничего не изменилось. Мир остался прежним, под небом в каждом квадранте умирают дети, голодные и одинокие.
Дальше я не мог рисковать. Я отклонился от курса, обыскивая ночь как луч маяка, выбирая смертных, кто может заметить, как они покинули здание, где занимались делом чрезвычайной важности, но они удалились слишком незаметно, слишком быстро. Я почувствовал, как они ушли. Я почувствовал, как внезапно пропало их дыхание, их пульс, и я знал, что их унес ветер. Наконец, когда протикал еще час, я дал своим глазам обойти те же старые комнаты, где бродили они. Все было спокойно у бедных одурманенных техников и охранников, которых ввели в транс белолицые призраки из другого мира, выполнявшие свою отвратительную задачу. К утру обнаружат кражу, обнаружат, что вся работа пропала, и дорино чудо получит очередное печальное оскорбление, что только ускорит потерю интереса к нему. У меня все воспалилось. Я плакал сухим, хриплым плачем, не в состоянии даже набрать в себе слез. Кажется, один раз я заметил свою руку, гротескные когти, скорее освежеванные, чем обгоревшие, и глянцево-черные, какими я их и помнил - или видел. Потом меня начала терзать одна загадка. Как же я смог убить злого брата моей бедной возлюбленной? Как могло это быстрое страшное правосудие быть чем-то, кроме иллюзии во время моего подъема и падения под тяжестью утреннего солнца? А если на самом деле этого не произошло, если я не осушил досуха этого жуткого мстительного брата, значит, они - просто сон, моя Сибель и мой маленький бедуин. Ну неужели это будет последним кошмаром? Ночь достигла самого страшного часа. В оштукатуренных комнатах глухо били часы. Под колесами трещал вспененный снег. Я еще раз поднял руку. Неизбежный хруст и щелчок. Меня засыпало осколками льда, словно битым стеклом! Я посмотрел вверх, на чистые, искрящиеся звезды. Как они прекрасны - сторожевые стеклянные шпили с прикрепленными к ним золотыми квадратиками света, рядами вырезанные резко вдоль и поперек, испещряя воздушную черноту зимней ночи, а вот и ветер-тиран, шуршащий в хрустальных каньонах, достигая маленький заброшенной постели, где лежит один забытый демон, глядя воровским взглядом огромной души на приободрившиеся городские огни в облаках. Звездочки, как же я вас ненавидел, как я завидовал, что в этом призрачном вакууме вам удается с такой решимостью следовать намеченному курсу. Но я уже ничего не ненавидел. Моя боль очистила меня от всего недостойного. Я следил, как небо затягивается облаками, поблескивает, на одну великолепную спокойную секунду превращается в бриллиант, а затем мягкий белый туман снова поглощает золотистые отблески городских фонарей и посылает им в ответ мягчайший, легчайший снег. Он упал на мое лицо. Он упал на мою вытянутую руку. Он падал на все мое тело, тая крошечными волшебными снежинками.
- А теперь взойдет солнце, - прошептал я, словно меня обнял некий ангел-хранитель, - и даже здесь, под перекошенным жестяным навесом, через сломанный настил оно достанет меня и унесет мою душу к новым глубинам боли.
В ответ раздался протестующий крик. Чей-то голос умолял, чтобы этого не случилось. Мой голос, решил я, конечно, как же обойтись без самообмана? Безумие - считать, что я перенесу все эти ожоги и второй раз вынесу это по собственной воле. Но голос принадлежал не мне. А Бенджамину, Бенджамину, поглощенному молитвой. Выбросив вперед свой бесплотный глаз, я увидел его. Он стоял на коленях в комнате, а она, как спелый сочный персик, спала среди мягких сбившихся в сторону покрывал.
|
|
| |
|
GolDiVampire |
Дата: Среда, 09 Май 2012, 01:55 | Сообщение # 32 |

Клан Эсте/Эрц-герцогиня Фейниэль/Мисс Хогсмит 2014

Новые награды:
Сообщений: 2778
Магическая сила:












| - Ну ангел, дибук, помоги нам. Дибук, ты уже приходил. Приходи еще раз. Не беси меня, приходи!
- Сколько часов осталось до рассвета, маленький мужчина? - прошептал я в его маленькое, похожее на морскую раковину ухо, словно сам этого не знал.
- Дибук! - закричал он. - Это ты, ты говоришь со мной. Сибель, проснись, Сибель!
- Нет, подумай, прежде чем будить ее. Это страшное задание. Я - не то потрясающее существо, на твоих глазах высосавшее кровь из твоего врага, обожествлявшее ее красоту и твою радость. Если ты решил отдать долг, ты придешь забрать чудовище, оскорбление для твоих невинных глаз. Но не сомневайся, маленький мужчина, я буду с тобой навсегда, если ты окажешь мне эту услугу, если ты придешь ко мне, если ты мне поможешь, потому что воля покидает меня, я один, я хочу восстановиться, но сам справиться не могу, мои годы ничего не значат, и мне страшно.
Он вскарабкался на ноги. Он встал и выглянул в далекое окно, в окно, через которое я мельком подсмотрел за ним во сне его же смертными глазами, но он меня увидеть не мог, я лежал на крыше внизу, под роскошной квартирой, что он делил с моим ангелом. Он расправил свои квадратные плечики и, серьезно нахмурив свои черные брови, превратился в точную копию византийской фрески, херувим еще младше меня.
- Назови цену, дибук, я иду к тебе! - объявил он и сложил в кулак свою могучую ручонку. - Где ты, дибук, чего ты боишься, чего мы не победим вместе? Сибель, проснись, Сибель! Наш божественный дибук вернулся, и мы нужны ему!
Они пошли за мной. Здание находилось рядом с их домом, заброшенная груда металла. Бенджамин ее знал. Несколькими тихими телепатическими фразами я попросил его принести молоток и ледоруб, чтобы разбить оставшийся лед, а также захватить пару теплых одеял, чтобы завернуть меня. Я знал, что ничего не вешу. Сделав несколько болезненных движений руками, я сломал еще часть прозрачного потолка. Своими когтистыми руками я потрогал голову и выяснил, что ко мне вернулись волосы - по-прежнему густые, каштановые. Я поднес прядь волос к свету, но боль в руке стала невыносимой, и я уронил ее, не в состоянии пошевелить высохшими искривленными пальцами. Необходимо загипнотизировать их, хотя бы для первой встречи. Нельзя им смотреть на то, что от меня осталось, на черное кожаное чудище. Никакой смертный не перенесет такого зрелища, какие бы слова ни исходили их моих губ. Нужно как-то прикрыться. Не имея зеркала, откуда мне знать, как я выгляжу и что конкретно делать?
Оставалось только воображать, воображать былые дни в Венеции, когда я был красавчиком и прекрасно знал свою внешность по портновскому зеркалу, и спроецировать этот образ прямо в их мысли, пусть на это потребуется вся оставшаяся у меня сила; да, так я и сделаю, а еще нужно дать им указания. Я неподвижно лежал и смотрел на мягкий теплый снегопад, на крошечные снежинки, такие непохожие на ужасный буран предыдущих ночей. Я не осмеливался использовать свои таланты, чтобы следить за их продвижением. Внезапно я услышал громкий звон бьющегося стекла. Внизу хлопнула дверь. Я услышал, как они неровными шагами помчались по металлической лестнице, карабкаясь по пролетам. Мое сердце тяжело билось, с каждой судорогой накачивая меня болью, словно меня обжигала собственная кровь. Внезапно стальная дверь на крыше распахнулась. Я услышал, как они помчались ко мне. При слабом сонном свете соседних высоких башен я разглядел две маленьких фигурки - ее, женщины из сказки, и его - ребенка не старше двенадцати лет, они спешили ко мне. Сибель! Что же она вышла на крышу без верхней одежды, с распущенными волосами, как это печально, и Бенджамин не лучше - в тонкой хлопчатобумажной джеллабе. Они принесли для меня большой бархатный плед, и нужно было вызвать видение. Где тот мальчик, каким я был, где тончайший зеленый атлас и ряды изысканных кружев, где чулки и обшитые тесьмой сапоги, и пусть у меня будут чистые блестящие волосы. Я медленно открыл глаза, переводя взгляд с одного бледного восхищенного лица на другое. Они стояли под падающим снегом как два ночных бродяги.
- Ну знаешь, дибук, ты нас перепугал, - сказал Бенджамин бешеным возбужденным голосом, - а посмотреть на тебя - ты такой красивый.
- Нет, не верь глазам своим, Бенджамин, - сказал я. - Быстрее несите свои инструменты, разбейте лед и накройте меня покрывалом.
Сибель взялась за железный молоток с деревянной ручкой и обеими руками обрушила его, моментально пробив верхний мягкий слой льда. Бенджамин принялся колоть остальной лед, превратившись в маленькую машину, кидаясь то влево, то вправо, осколки разлетались, как жуки. Ветер подхватил волосы Сибель и бросил ей в глаза. К ее векам липли снежинки. Я удерживал образ беспомощного мальчика в атласных одеждах, приподнявшего мягкие розовые руки, неспособного им помочь.
- Не плачь, дибук, - объявил Бенджамин, ухватившись обеими руками за гигантскую тонкую пластину льда. - Мы тебя вытащим, не плачь, ты теперь наш. Мы тебя забираем.
Он отбросил в сторону здоровые зазубренные сломанные пластины, а потом сам, по-видимому, замерз сильнее, чем любой лед, уставившись на меня, округлив рот от изумления.
- Дибук, ты меняешь цвет! - воскликнул он. Он протянул руку, чтобы потрогать мое иллюзорное лицо.
- Не надо, Бенджи, - сказала Сибель.
Тогда я впервые услышал ее голос и заметил нарочитое храброе спокойствие ее побелевшего лица, от ветра ее глаза слезились, хотя стойкость ее не поколебалась. Она выбрала лед из моих волос. От холода по моему телу пробежала ужасная дрожь, да, она притушила пожар, но от нее по моему лицу потекли слезы. Из крови?
- Не смотрите на меня, - сказал я. - Бенджи, Сибель, не смотрите. Просто дайте мне в руки покрывало.
Она болезненно прищурила глаза, но упрямо продолжала смотреть на меня ровным взглядом, подняв одну руку, чтобы придержать воротник своей непрочной хлопчатобумажной ночной рубашки, держа вторую надо мной.
- Что с тобой случилось после того, как ты приходил к нам? - спросила она ужасно добрым голосом. - Кто это сделал?
Я глотнул воздуха и снова вызвал видение. Я вытолкнул его из каждой поры, как будто мое тело превратилось в единый дыхательный орган.
- Нет, не надо больше, - сказала Сибель. - Ты от этого слабеешь и ужасно мучаешься.
- Я вылечусь, милая, - сказал я, - честное слово, вылечусь. Я не останусь таким навсегда, уже скоро я изменюсь. Только снимите меня с крыши. Уберите меня с холода туда, где солнце меня не достанет. Это сделало солнце. Всего лишь солнце. Унесите меня, пожалуйста. Я не могу идти. Даже ползти не могу. Я - ночной зверь. Спрячьте меня в темноте.
- Довольно, ни слова больше! - закричал Бенджи.
Я открыл глаза и увидел, как меня накрыла огромная голубая волна, словно меня завернули в летнее небо. Я почувствовал мягкое прикосновение бархатного ворса, но даже это оказалось больно, больно для горящей кожи, но такую боль я мог вынести, потому что до меня дотрагивались их сочувственные руки, и ради этого, ради их прикосновений, ради их любви, я вынес бы все, что угодно. Я почувствовал, как меня подняли. Я знал, что вешу немного, но как ужасно было ощущать собственную беспомощность, пока меня заворачивали.
- Вам не тяжело меня нести? - спросил я.
Моя голова запрокинулась, я опять увидел снег и вообразил, что, если напрячь глаза, можно увидеть и звезды, задержавшиеся на своей высоте ради тумана одной-единственной крошечной планеты.
- Не бойся, - прошептала Сибель, приближая губы к покрывалу. Внезапно запахло их кровью, густой и сочной, как мед. Они взяли меня вдвоем, подняли на руки и вдвоем побежали по крыше. Я освободился от пагубного снега и льда, я свободен практически навсегда. Нельзя допускать и мысли об их крови. Нельзя допускать, чтобы это прожорливое обгорелое тело взяло верх. Это немыслимо. Мы спускались по металлической лестнице, следуя повороту за поворотом, их ноги стучали по хрупким стальным ступеням, мое тело сотрясалось и пульсировало в агонии. Я видел над собой потолок, а потом смешавшийся запах их крови возобладали над всем остальным, я закрыл глаза и сжал обгорелые пальцы, услышав при этом, как треснула кожаная плоть. Я вонзил ногти в ладони. Я услышал над ухом голос Сибель.
- Ты с нами, мы тебя крепко держим, мы тебя не выпустим. Это недалеко. Господи, ты только посмотри, посмотри, что с тобой сделало солнце!
- Не смотри! - резко сказал Бенджи. - Давай быстрее! Ты что, считаешь, такой могущественный дибук не знает, о чем ты думаешь? Будь умницей, поторопись.
Они спустились на цокольный этаж, к открытому окну. Я почувствовал, Сибель поднимает меня, просунув руки мне под голову и под согнутые колени, и снаружи, не отдаваясь больше эхом в стенах, раздался голос Бенджика.
- Вот и все, теперь давай его мне, я его подержу!
У него был ужасно бешеный, взволнованный голос, но она вылезла в окно вместе со мной, это я смог определить, хотя мой тонкий ум дибука полностью исчерпался, и я уже ничего не знал, кроме боли, боли и крови, и еще раз боли, и опять крови, а они тем временем бежали по длинному темному переулку, где небес я уже не мог рассмотреть. Однако мне стало очень приятно. Колеблющиеся движения, покачивание моих обгорелых ног и мягкие прикосновения ее успокаивающих пальцев через одеяло - все это было извращенно чудесно. Боль кончилась, остались просто ощущения. На лицо мне упало покрывало. Они поспешно продвигались вперед, скрипя ногами по снегу, один раз Бенджи поскользнулся и громко вскрикнул, но Сибель успела его подхватить. Он перевел дух. Сколько усилий им это стоит, еще и на таком морозе. Им необходимо попасть в тепло. Мы вошли в отель, где они жили. Едкий теплый воздух вырвался нам навстречу, несмотря на то, что двери были открыты, и, не успели они закрыться, как по вестибюлю разлетелось эхо резких шагов туфелек Сибель и поспешного шарканья сандалий Бенджика. Со внезапным взрывом боли в ногах и в спине я почувствовал, что согнулся вдвое, что колени мои поднялись вверх, а голова опрокинулась на них - мы забились вверх. Я задавил крик в горле. Это сущие пустяки. Лифт, пропахший старыми моторами и надежным старым маслом, начал, дергаясь и покачиваясь, подниматься вверх.
- Мы дома, дибук, - прошептал Бенджи, дыханием обжигая мне щеку, хватая меня рукой через одеяло и больно нажимая на голову. - Теперь ты в надежном месте, мы поймали тебя и больше не отпустим.
Кляцанье замков, шаги по деревянному полу, запах ладана и свечей, стойких женских духов, густого лака для изысканных вещей, старых холстов с потрескавшейся краской, свежих и невероятно приятных белых лилий. Мое тело бережно уложили в пуховую постель, взбив одеяло, и, когда я опустился на шелк и бархат, подушки, казалось, растаяли подо мной. В этом самом взъерошенном гнезде я заметил ее своим мысленным взором, золотистую, спящую, в белой рубашке, а она отдала ее такому страшилищу.
- Не снимайте покрывало, - сказал я. Я знал, что именно это и собрался сделать мой маленький друг. Неустрашимый, он аккуратно сдвинул его. Одной выздоравливающей рукой я попытался схватить его, вернуть обратно, но мне удалось только согнуть обгоревшие пальцы. Они встали над кроватью и рассматривали меня. Вокруг них, смешиваясь с теплом, вился свет, вокруг хрупких фигурок, стройной фарфоровой девушки, с чьей молочной кожи стерлись следы синяков, и маленький мальчик-араб, мальчик-бедуин - теперь я осознал, что таково его настоящее происхождение. Они бесстрашно уставились на то, что для человеческих глаз являлось зрелищем омерзительным.
- Какой ты блестящий! - сказал Бенджи. - Тебе не больно?
- Что нам сделать? - спросила Сибель приглушенным тоном, как будто меня мог поранить даже ее голос. Она прикрыла рот руками. Непокорные клочья ее густых прямых бледных волос двигались на свету, руки посинели от холода, и она не могла сдержать дрожь. Бедное скромное создание, такое хрупкое. Ее ночная рубашка помялась - тонкий белый хлопок, расшитый цветами, с оборками из узких прочных кружев, одеяние девственницы. Ее глаза наполнились сочувствием до краев.
- Знай, что у меня за душа, мой ангел, - сказал я. - Я - существо испорченное. Бог меня не принял. Дьявол тоже не принял. Я поднялся к солнцу, чтобы они забрали мою душу. Она была любящей, не боялась ни адского огня, ни боли. Но моим чистилищем, моей темницей стала наша земля, эта самая земля. Не знаю, как я попал к вам в тот раз. Не знаю, какая сила подарила мне несколько кратких секунд, чтобы появиться здесь, в вашей комнате, и встать между тобой и смертью, нависшей надо мной, как тень.
- Нет-нет, - в страхе прошептала она, поблескивая глазами в тусклом свете комнаты. - Он ни за что меня не убил бы.
- Нет, еще как убил бы! - сказал я, и Бенджи произнес точно такие же слова хором со мной.
- Он напился, ему было наплевать, что он делает, - мгновенно взорвался Бенджи, - у него были здоровенные, неуклюжие, поганые руки, ему было наплевать, что он делает, а когда он в последний раз ударил тебя, ты пролежала два часа в этой постели, как мертвая, и даже не шелохнулась! Ты что, думаешь, дибук убил бы твоего брата просто так?
- Я думаю, он прав, моя красавица, - сказал я. Говорить было ужасно сложно. С каждым словом приходилось приподнимать грудь. Вдруг мне отчаянно, безумно захотелось посмотреться в зеркало. Я заворочался и повернулся на кровати, но застыл от боли. Их охватила паника.
- Не двигайся, дибук, не надо! - взмолился Бенджи. - Сибель, шелк, тащи сюда шелковые платки, мы его завернем.
- Нет! - прошептал я. - Накройте меня покрывалом. Если вы так хотите видеть мое лицо, оставьте его, но остальное закройте. Или…
- Или что, дибук, говори?
- Поднимите меня, чтобы я увидел, на что я похож. Поставьте меня перед высоким зеркалом.
Они озадаченно замолчали. Длинные золотые волосы Сибель улеглись и ровным льняным слоем легли на ее большую грудь. Бенджи жевал губу. По всей комнате плыли краски. Голубой шелк, прибитый к оштукатуренным стенам, кипы богато расшитых подушек вокруг, золотая бахрома, а там, подальше, на люстре, качаются стеклянные палочки, пропитанные всеми сверкающими цветами радуги. Я вообразил, что слышу звенящую песню стекла при соприкосновении палочек. Моему слабому помутившемуся рассудку казалось, что я никогда еще не видел столь неподдельного великолепия, что за все эти годы я забыл, насколько ярок и совершенен мир. Я закрыл глаза, прижав к сердцу образ комнаты. Я вдохнул поглубже сладкий, чистый аромат лилий, борясь с благоуханием их крови.
- Вы не дадите мне посмотреть на те цветы? - прошептал я. Обуглились ли мои губы? Видны ли им мои клыки, и пожелтели ли они от огня? Лежа на шелковой простыне, я погрузился в дремотное состояние. Я дремал, и мне показалось, что теперь можно и заснуть, в безопасности, в полной безопасности. Лилии стояли рядом. Я снова протянул руку. Я потрогал пальцами лепестки, и по моему лицу покатились слезы. Неужели они из чистой крови? Я молил Бога, чтобы это было не так, но услышал, как откровенно вскрикнул Бенджик и тихо зашептала Сибель, призывая его к молчанию.
- Когда это случилось, мне было, кажется, лет семнадцать, - сказал я. - Это было сотни лет назад.
На самом деле я был слишком маленький. Мой создатель любил меня; он не считал, что мы плохие. Он думал, мы можем питаться плохими людьми. Если бы я не умирал, он подождал бы. Он хотел, чтобы я узнал побольше, подготовился.
Я открыл глаза. Я их загипнотизировал! Они опять видели того мальчика, каким я был раньше. Я сделал это непреднамеренно.
- Какой же красивый! - сказал Бенджи. - Какой ты прекрасный, дибук.
- Маленький мужчина, - вздохнул я, чувствуя, как хрупкая иллюзия растворяется в воздухе, - отныне зови меня по имени; я - не дибук. Ты, наверное, подцепил это от палестинских евреев?
Он засмеялся. Он не дрогнул, когда я растаял и превратился в чудовище.
- Тогда скажи, как тебя зовут, - попросил он. Я сказал.
- Арман, - вступила Сибель, - скажи, что нам сделать? Если не шелковые платки, тогда мазь, алоэ, да, алоэ подойдет, оно вылечит твои ожоги.
Я рассмеялся, но совсем негромко, желая проявить только доброту.
- Мое алоэ - кровь, детка. Мне нужен мерзавец, человек, заслуживающий смерти. Так где мне его взять?
- И что тебе даст его кровь? - спросил Бенджи.
Он сел рядом и нагнулся надо мной, словно я оказался удивительным экземпляром.
- А знаешь, Арман, ты черный, как смола, ты весь из черной кожи, как те люди, которых вылавливают из трясины в Европе, блестящий, а все остальное спрятано внутри. По тебе можно мускулатуру изучать.
- Бенджи, прекрати, - сказала Сибель, борясь с неодобрением и тревогой. - Нужно придумать, как нам достать мерзавца.
- Ты серьезно? - спросил он, поднимая голову и глядя на нее с другой стороны кровати. Она стояла, сжав руки, как при молитве. - Сибель, это ерунда. Проблема в том, как потом от него избавиться. - Он посмотрел на меня. - Знаешь, как мы поступили с ее братом? Она зажала уши руками и наклонила голову. Сколько раз я сам повторял этот жест, когда мне казалось, что поток слов и воспоминаний затопил меня с головой. - Ты просто глянцевый, Арман, - сказал Бенджи. - Но я достану тебе мерзавца, это ерунда. Хочешь мерзавца? Давай продумаем план. - Он наклонился надо мной, как будто старался проникнуть в мои мысли. Я внезапно понял, что он рассматривает клыки.
- Бенджи, - сказал я, - не приближайся. Сибель, убери его.
- Но что я сделал?
- Ничего, - сказала она. Она понизила голос и с отчаянием добавила: - Он хочет есть.
- Поднимите еще раз покрывало, пожалуйста, - попросил я. - Снимите их, посмотрите на меня и дайте мне заглянуть вам в глаза, станьте моим зеркалом. Я хочу увидеть, насколько все плохо.
- Хммм, Арман, - сказал Бенджи. - Похоже, ты вроде как спятил.
Сибель наклонилась и осторожными руками стянула покрывало назад и вниз, обнажая мое тело во всю длину. Я зашел в ее мысли. Все было даже хуже, чем я мог себе представить. Глянцевый, жуткий труп из трясины, точь-в-точь, как говорил Бенджи, за исключением страшно выделяющихся рыже-коричневых волос и огромных ярко-карих глаз без век, плюс белые зубы, выстроившиеся безупречными рядами между иссохшими до основания губами. На плотно натянутой морщинистой коже слезы оставили густые красные полосы. Я резко отбросил голову набок и уткнулся в пуховую подушку. Я почувствовал, как меня накрыло покрывало.
- Даже если я это выдержу, с вас хватит, - сказал я. - Я не потерплю, чтобы вы смотрели на это хотя бы еще минуту, поскольку чем дольше вы будете с этим мириться, тем больше вероятность, что вы сможете примириться с чем угодно. Нет. Так продолжаться не может.
- Все, что захочешь, - сказала Сибель. Она свернулась рядом со мной. - Если я положу тебе руку на лоб, тебе станет прохладнее? Если я поглажу твои волосы, тебе станет легче?
Я посмотрел на нее из узкой щели глаза. Длинная тонкая шея составляла часть ее трепетного, изнуренного очарования. У нее была пышная, высокая грудь. За ее спиной в приятном теплом полумраке комнаты я разглядел пианино. Я представил себе, как дотрагиваются до клавишей эти длинные тонкие пальцы. В голове у меня билась “Апассионата”. Раздался громкий стук, хруст, щелчок, а потом густо запахло дорогим табаком. Сзади расхаживал Бенджи с черной сигареткой в зубах.
- У меня есть план, - объявил он, без усилий прочно удерживая сигарету в полуоткрытых губах. - Я спускаюсь по улице. Я и моргнуть не успеваю, как встречаю настоящего мерзавца, подонка. Я говорю ему, что остался в номере, там, в отеле, вдвоем с одним мужиком, он напился, мелет чушь, совсем спятил, а нам нужно продать кокаин, я не знаю, что делать, мне нужна помощь.
Я засмеялся, невзирая на боль. Маленький бедуин пожал плечами и поднял ладони, попыхивая черной сигаретой, а дым окутывал его волшебным облаком.
- Как думаете? Все получится. Послушай, я в людях разбираюсь. Теперь ты, Сибель, ты уйдешь с дороги и дашь мне провести этот жалкий мешок грязи, мерзавца, которого я заманю в ловушку, прямо к кровати, а здесь я пихну его в лицо, вот так, я поставлю ему подножку, вот так, и бац! - он свалится прямо тебе в руки, Арман, ну, как тебе?
- А если пойдет не по плану? - спросил я.
- Тогда моя красавица Сибель треснет его по голове молотком.
- У меня идея получше, - сказал я, - хотя, видит Бог, ты изобрел непревзойденный, потрясающий план. Ты, конечно, скажешь ему, что кокаин разложен под покрывалом в аккуратных пластиковых пакетиках, но если он не клюнет и подойдет посмотреть, что здесь лежит на самом деле, пусть наша красавица Сибель просто откинет покрывало, а когда он увидит своими глазами, что действительно было в постели, он вылетит отсюда, и не подумав причинить никому вред!
- Отлично! - закричала Сибель. Она захлопала в ладоши и широко раскрыла бледные просветленные глаза.
- Идеально, - согласился Бенджи.
- Но смотри, не бери с собой на улицу ни единой монетки. Если бы у нас было немножко поганого белого порошка, чтобы приманить зверя.
- Но у нас есть, - сказала Сибель. - Именно столько, немножко, мы достали его из карманов моего брата. - Она задумчиво посмотрела на меня невидящими глазами, перебирая детали плана в плотных кольцах своего мягкого податливого ума. - Мы все забрали, чтобы, когда его найдут, при нем ничего не было. В Нью-Йорке многие так умирают. Конечно, тащить его было невыразимо тяжело.
- Ну да, есть у нас поганый белый порошок! - сказал Бенджи, внезапно сжимая ее плечо, молниеносно исчез из поля моего зрения и мгновенно вернулся в маленьким плоским портсигаром. - Положи сюда, я понюхаю, что там внутри, - сказал я. Видно было, что точно они этого не знали. Бенджи щелкнул крышкой тонкой серебряной коробочки. Там, устроившись в маленьком полиэтиленовом пакете, сложенном с безупречной аккуратностью, лежал порошок с тем самым запахом, которого я ждал. Мне не требовалось класть его на язык, для которого вкус сахара показался бы точно таким же чуждым.
- Прекрасно. Только немедленно высыпи половину в водопровод, чтобы осталось совсем немного, и оставь здесь серебряный футляр, иначе найдется дурак, который убьет тебя за него.
Сибель затряслась от нескрываемого страха.
- Бенджи, я пойду с тобой.
- Нет, это было бы уж совсем неразумно, - сказал я. - Он сумеет сбежать от них гораздо быстрее, чем ты.
- Как ты прав! - воскликнул Бенджи, затянувшись в последний раз, а затем раздавив сигарету в большой стеклянной пепельнице у кровати, где свернулся, поджидая нового соседа, целый десяток белых окурков. - А сколько раз я ей это твердил, выходя посреди ночи за сигаретами? Думаешь, она слушает?
Он исчез, не дожидаясь ответа. Я услышал, как из-под крана побежала вода. Он смывал половину кокаина. Я обвел глазами комнату, отклоняясь от мягкого, полного крови ангела-хранителя.
- Бывают люди, добрые от рождения, - сказал я, - люди, которые хотят помогать другим. Ты из таких людей, Сибель. Пока ты жива, мне покоя не будет. Я останусь рядом с тобой. Я всегда буду охранять тебя, я отплачу тебе. - Она улыбалась. Я изумился. Ее узкое лицо, ее красивой формы бледные губы прорезала самая свежая, самая здоровая улыбка, словно пренебрежение и боль никогда ее не терзали.
- Ты станешь моим ангелом-хранителем, Арман? - спросила она.
- Всегда.
- Я пошел, - сообщил Бенджи.
Щелчок, хруст - он зажег новую сигарету. Должно быть, у него не легкие, а мешки угля.
- Я пошел, на ночь глядя. А вдруг сукин сын окажется больной, или грязный, или…
- Мне все равно. Кровь есть кровь. Просто веди его сюда. Не стоит пробовать свои фантазии с подножкой. Подожди, пока не подведешь его прямо сюда, к кровати, а когда он потянется за покрывалом, ты, Сибель, отдерни его, а ты, Бенджи, толкни его изо всех сил, чтобы он ударился голенью о бок кровати, тогда он упадет прямо мне в руки. И тогда я его получу.
Он направился к двери.
- Подожди, - прошептал я. О чем я только думал в своей жадности? Я взглянул на ее безмолвное улыбающееся лицо, а потом - на него, на маленький моторчик, дымящий черной сигаретой, ничего не надевший для жестокой зимы, кроме проклятой джеллабы.
- Нет, нужно - значит нужно, - сказала Сибель, широко раскрыв глаза. - А Бенджи выберет очень плохого человека, правда, Бенджи? Настоящего мерзавца, который захочет тебя ограбить и убить.
- Я знаю, куда идти, - сказал Бенджи с кривой улыбочкой. - Смотрите, разыграйте свои карты, когда я приду, вы оба. Накрой его, Сибель. Не смотри на часы. За меня не волнуйся!
Он хлопнул дверью, за ним автоматически закрылся большой тяжелый замок.
Значит, она придет. Кровь, густая красная кровь. Придет. Придет, она будет горячая и вкусная, полный мужчина крови, она придет, придет через несколько секунд. Я закрыл глаза, а когда открыл, перед ними вновь обрела форму комната - небесно-голубые занавески на каждом окне, плотными складками падавшие на пол, ковер с большим искривленным овалом напоминающих капусту роз. И она, девочка-стебелек, не сводящая с меня глаз, улыбающаяся искренней милой улыбкой, словно ночное преступление казалось ей пустяком. Она опустилась на колени в опасной близости от меня и еще раз ласково прикоснулась к моим волосам. До моей руки дотронулась ее мягкая, ничем не скованная грудь. Я прочел ее мысли, как читал бы судьбу по ладони, сталкивая слой за слоем ее сознание, опять увидел темную извилистую дорогу, вьющуюся по долине реки Иордан, и родителей, слишком быстро ведущих машину для кромешной тьмы и поворотов-шпилек, а также водителей-арабов, мчащихся на еще более высокой скорости, так что каждое пересечение фар превращалось в изнурительное состязание.
- Поесть рыбы из моря Галилеи, - сказала она, отводя глаза. - Это я захотела. Это я придумала туда ехать. У нас оставался последний день в Святой Земле, все говорили, что от Иерусалима до Назарета далеко добираться, а я сказала: “Но он ходил по воде”. Самая странная легенда, я всегда так думала. Ты ее знаешь?
- Знаю, - сказал я.
- Про то, что он ходил прямо по воде, как будто забыл, что рядом апостолы, что его могут увидеть, а когда с лодки сказали: “Господи!”, он испугался от неожиданности. Такое странное чудо, как будто все произошло… по случайности. Это я захотела ехать. Это я хотела съесть свежей рыбы, прямо из моря, из той же воды, где ловили рыбу и Петр, и все остальные. Моих рук дело. Нет, я не говорю, будто это моя вина, что они погибли. Просто это моих рук дело. А мы все направлялись домой, на большой концерт в Карнеги-холл, его должна была записывать компания звукозаписи, вживую. Знаешь, я уже записала одну пластинку. Никто и ожидал, что она так хорошо пойдет. Но той ночью… той ночью, которой так и не было, я собиралась играть “Апассионату”. “Это было самое главное. Я люблю и другие сонаты, и “Лунную”, и “Патетическую”, но моей… моей была “Апассионата”. Мама и папа так мной гордились. Но мой брат, это мой брат всего добивался, договаривался о времени, о месте, о хорошем пианино, об учителях. Это он открыл всем глаза, но, конечно, с другой стороны, собственной жизни у него не было, и все мы видели, чем это кончится. По ночам за столом мы обсуждали, что он должен жить собственной жизнью, что не годится ему на меня работать, но он отвечал, что в будущем он мне понадобится, я и не представляю, до какой степени он мне понадобится. Он станет заправлять записями, концертами, репертуаром, гонорарами. Агентам нельзя доверять. Я понятия не имею, говорил он, как высоко я поднимусь. Она помолчала, склонив голову набок с серьезным и искренним видом. - Понимаешь, я не принимала никакого решения, - сказала она. - Я просто не могла больше ничего делать. Они умерли. Я просто не могла выходить из комнаты. Я просто не могла снимать трубку. Я просто не могла играть другую музыку. Я просто не могла слушать, что он говорит. Я просто не могла строить планы. Я просто не могла есть. Я просто не могла переодеваться. Я только играла “Апассионату”.
- Я понимаю, - тихо сказал я.
- Он привез с нами Бенджика, чтобы тот обо мне заботился. Мне всегда было интересно, как он это устроил. Я думаю, Бенджика купили, ну, знаешь, купили, за деньги.
- Знаю.
- Думаю, так все и было. Он говорил, что не может оставить меня одну, даже в “Царе Давиде”, это был отель….
- Да.
- … потому что, он говорил, я стою у окна без одежды, или не впускаю горничную, а еще играю на пианино посреди ночи и не даю ему спать. И он нашел Бенджика. Я люблю Бенджика.
- Я знаю..
- Я всегда делаю, что скажет Бенджи. Он никогда не смел ударить Бенджика. Только под конец он начал бить меня всерьез. Раньше он либо пощечину мне давал, либо пинка. Он хватал меня за волосы, наматывал все волосы на руку, и бросал меня на пол. Так часто бывало. Но Бенджика он не бил. Он знал - если ударить Бенджика, я буду кричать без остановки. Но, с другой стороны, когда Бенджи старался его остановить… Но я не знаю, у меня так кружилась голова. У меня болела голова.
- Я понял, - сказал я. Конечно, он бил Бенджика. Она тихо призадумалась, ее глаза оставались широко раскрытыми, яркими, она не плакала и не щурилась.
- Мы с тобой похожи, - прошептала она, устремляя на меня взгляд. Ее рука лежала рядом с моей щекой, и она очень осторожно прижала ко мне мягкую подушечку своего указательного пальца.
- Похожи? - спросил я. - Ради всего святого, о чем ты думаешь?
- Чудовища, - сказала она. - Дети.
Я улыбнулся. Но она не улыбалась. У нее был мечтательный вид.
- Я так обрадовалась, когда ты пришел, - сказала она. - Я знала, что он умер. Знала, когда ты встал у пианино и посмотрел на меня. Знала, когда ты стоял там и слушал меня. Я так радовалась, что нашелся тот, кто смог его убить.
- Сделай это для меня, - сказал я.
- Что? - спросила она. - Арман, я сделаю все, что угодно.
- Подойди к пианино. Поиграй мне. Сыграй “Апассионату”.
- А как же план? - тихо и недоуменно спросила она. - Мерзавец, он сейчас придет.
- Оставь это нам с Бенджи. Не оборачивайся, не смотри. Просто играй “Апассионату”.
- Нет, ну пожалуйста, - ласково попросила она.
- Но почему нет? - сказал я. - Зачем тебе проходить через такую пытку?
- Нет, ты не понял, - ответила он с широко открытыми глазами. - Я хочу посмотреть!
|
|
| |
|
GolDiVampire |
Дата: Среда, 09 Май 2012, 01:55 | Сообщение # 33 |

Клан Эсте/Эрц-герцогиня Фейниэль/Мисс Хогсмит 2014

Новые награды:
Сообщений: 2778
Магическая сила:












| 22
Внизу только что вернулся Бенджи. От далекого звука его голоса, совершенно неслышного Сибель, в каждую ткань моего тела мгновенно вернулась боль.
- О чем я и говорю, - болтал он, не закрывая рта, - все лежит прямо под трупом, а мы не хотим его поднимать, но вы, как полицейский, вы, как полицейский из отдела по борьбе с наркотиками, говорят, вы в таких делах знаете толк…
Я засмеялся. Ему действительно было, чем гордиться. Я снова взглянул на Сибель, смотревшую на меня с выражением тихой решимости, глубокого понимания и задумчивости.
- Закрой мне лицо покрывалом, - сказал я, - и отойди подальше, еще дальше. Он ведет к нам типичного принца мошенников. Быстрее.
Она мгновенно принялась за дело. Уже пахло кровью жертвы, хотя она все еще стояла в поднимающемся лифте и разговаривала с Бенджи в сдержанных, осмотрительных выражениях.
- И все это случайно оказалось у вас с ней в номере, и больше с вами никого нет? - Какой красавец! В его голосе я услышал убийцу.
- Я все вам рассказал, - ответил Бенджи совершенно естественным голоском. - Вы нам просто помогите, сами понимаете, я не могу позволить, чтобы к нам заявилась полиция! - Шепот. Это приличный отель. Откуда я знал, что тот мужик возьмет и умрет прямо здесь! Мы дурь не принимает, забирайте ее, только уберите отсюда труп. И еще кое-что… - Двери лифта открылись. - Труп довольно подпорченный, так что не надо на меня пускать слюни, когда вы его увидите.
- Пускать на тебя слюни, - прорычала жертва, переводя дух. Послышались тихие звуки спешащих по ковру ботинок.
Бенджи возился с ключами, притворяясь, будто очень взволнован.- Сибель, - предостерегающе позвал он, - Сибель, открой дверь.
- Не открывай, - тихо сказал я.
- Конечно, не буду, - ответила она бархатным голосом. Повернулись задвижки большого замка.
- И этот мужик вот так случайно зашел сюда и умер со всем своим добром?
- Ну, не совсем, - сказал Бенджи, - но вы ведь заключили со мной сделку, я надеюсь, вы ее не нарушите.
- Послушай, маленький щенок из подворотни, я с тобой сделок не заключал.
- Отлично, так может, мне вызвать нормальную полицию? Я вас знаю. Вас все в баре знают, знают, откуда вы, вы всегда на виду. И что вы сделаете, а, большая пушка? Убьете меня?
Дверь за ними закрылась. Номер наводнил запах крови гостя. Он одурманен бренди, его жилы отравлены кокаином, но моей очистительной жажде это совершенно безразлично. Я едва мог сдерживаться. Я почувствовал, как напряглись и попытались согнуться под одеялом мои руки и ноги.
- Ну и ну, настоящая принцесса, - сказал он, когда его взгляд, очевидно, упал на Сибель. Сибель не ответила.
- При чем здесь она, вы сюда смотрите, под одеяло. Сибель, иди сюда, иди. Давай, Сибель.
- Здесь, под одеялом? Ты хочешь сказать, что под ним - труп, а под трупом - кокаин?
- Сколько раз нужно повторять? - спросил Бенджи и, несомненно, привычно пожал плечами. - Слушайте, хотел бы я знать, что именно вы не понимаете. Вам кокаин не нужен? Тогда я его раздам. В вашем любимом баре он очень распространен. Представляешь, Сибель, этот мужик обещает помочь, а дальше - болтает, болтает, болтает, типичный слизняк из правительства.
- Ты кого это слизняком, назвал, малыш? - поинтересовался мужчина с насмешливой добротой, и запах бренди сгустился. - Какой у нас словарный запас, а посмотреть на тебя - нос не дорос. Тебе сколько лет, малыш? Черт возьми, как ты вообще попал в страну? Неужели ты целыми днями разгуливаешь в ночной рубашке?
- А как же, зовите меня Лоуренсом Аравийским, - сказал Бенджи. - Сибель, а ну иди сюда.
Я не хотел, чтобы она подходила. Я хотел, чтобы она держалась как можно дальше. Она не пошевелилась, и я очень обрадовался.
- Мне моя одежда нравится, - болтал Бенджи. Клуб сладкого сигаретного дыма. - Видимо, я должен одеваться, как местные ребята, в синие джинсы? Сейчас. Мой народ так одевался, еще когда Магомет ходил по пустыне.
- Что может быть лучше прогресса? - спросил мужчина с глубоким гортанным смешком. Он подошел к кровати быстрыми резкими шагами. Запах крови стал таким интенсивным, что я почувствовал, как навстречу ему раскрываются поры моей обгоревшей кожи.
Крошечную часть своей силы я отдал на то, чтобы получить телепатическое представление о нем их глазами - высокий кареглазый человек, желтовато-белая кожа, впалые щеки, редеющие коричневые волосы, сшитый на заказ итальянский костюм из блестящего черного шелка, блестящие бриллиантовые запонки на дорогом полотне. Он дергался, шевелил пальцами, почти не мог твердо стоять на ногах, в голове буйствовал головокружительный настрой, цинизм и безумное любопытство. Жадные игривые глаза. Все затмевала безжалостность, и казалось, что в нем присутствует ярко выраженная черта неподдельного, вскормленного наркотиками безумия. Он гордился своими убийствами не меньше, чем царственными костюмом и блестящими коричневыми ботинками на ногах.
Сибель подошла поближе к кровати, и резкий сладкий аромат ее чистой плоти смешался с более тяжелым и густым запахом мужчины. Но я вожделел его крови, его крови, от которой из моего иссохшего рта чуть слюнки не потекли. Я с трудом сдерживался, чтобы не вздохнуть под одеялом. Я почувствовал, что мое тело вот-вот вырвется из болезненного состояния паралича.
Злодей оценивал обстановку, поглядывая по сторонам в открытые двери, прислушиваясь, нет ли посторонних голосов, обсуждая сам с собой, не стоит ли обыскать эти фантастические, битком набитые вещами, беспорядочно разбросанные комнаты, прежде чем приступать к делу. Пальцы его никак не могли успокоиться. Промелькнувшая бессловесная мысль ясно дала мне понять, что он понюхал принесенный Бенджи кокаин и немедленно захотел принять еще порцию.
- Ну и ну, а ты красотка, юная леди, - сказал он Сибель.
- Хочешь, я подниму покрывало? - спросила она. Я уловил запах маленького револьвера, засунутого за голенище его высокого черного сапога, и другого оружия, очень качественного и современного, абсолютно новая смесь металлических запахов, в кобуре подмышкой. От него пахло и деньгами, характерный несвежий запах засаленных бумажных денег.
- Ну что, мужик, струсил? - сказал Бенджи. - Так открыть тебе покрывало? Скажи, когда. Вот ты удивишься!
- Да нет там никакого трупа, - усмехнулся он. - Может, сядем, поболтаем? Ведь на самом деле это не ваш номер? Похоже, вас, детишки, требуется воспитать по-отечески.
- Труп весь обгорел, - сказал Бенджи. - Держись, как бы тебе плохо не стало.
- Обгорел! - воскликнул мужчина.
Длинная рука Сибель внезапно отдернула покрывало. По моей коже скользнул холодный воздух. Я уставился на отшатнувшегося мужчину, в чьем горле застыл придушенный рев.
- Бога ради!
Мое тело подскочило в ответ на зов полного фонтана крови как отвратительная марионетка по велению дернувшихся веревочек. Я стукнулся об него, плотно вцепился обожженными ногтями в его шею и обхватил его второй рукой в агонизирующем объятии, быстро подхватил языком кровь, выступившую из отметин, оставленных моими когтями, и, не обращая внимания на полыхающую в лице боль, пошире раскрыл рот и вонзил клыки. Вот он и мой.
Ни рост, ни сила, ни широкие плечи, ни огромные руки, сжимающие мою раненую плоть, - ничто ему не помогало. Он был мой. Я втянул первый густой глоток крови и подумал, что потеряю сознание. Но тело мое такого не допустило бы. Мое тело приросло к нему, как будто оно целиком состояло из прожорливых щупальцев.
Его окутанные просветленным туманом мысли моментально затянули меня в водоворот образов Нью-Йорка, бездумной жестокости и гротескных ужасов, безудержной, питающейся наркотиками энергии и злобствующей веселостью. Я погрузился в эти картины. Быстрая смерть меня не устраивала. Мне требовалась каждая капля его крови, а для этого сердце должно нагнетать ее без остановки; сердце не должно сдаться.
Если я и пробовал раньше столь крепкую кровь, столь сладкую и соленую кровь, то я этого не помнил; память просто не способна зарегистрировать такой восхитительный вкус, абсолютный восторг утоленной жажды, удовлетворенного голода, одиночества, растворившегося в жарких интимных объятьях в тот момент, когда меня привел бы в ужас звук собственного бурлящего, напряженного дыхания, если бы я хоть на секунду о нем задумался.
От меня исходил ужасный шум, противный чавкающий шум. Мои пальцы массировали его крепкие мускулы, мои ноздри вжались в его изнеженную, пахнущую мылом кожу.
- Мммм, как же я тебя люблю, я ни за что на свете тебя не обижу, чувствуешь, как приятно? - шептал я ему сквозь мелеющей, великолепной крови. - Мммм, да, как приятно, лучше, чем самый дорогой бренди…
От потрясения и недоверия он внезапно уступил, отдаваясь исступленному бреду, подогревая каждым моим словом. Я рванул его шею, расширяя рану, поглубже врезаясь в артерию. Кровь хлынула новым потоком.
По моей спине побежали восхитительные мурашки; они разбежались по рукам, по бедрам, по ногам. Боль и удовольствие смешались, а горячая и живая кровь с силой проникала в мельчайшие волокна моей сморщившейся плоти, накачивала мышцы под поджарившейся кожей, пропитывая даже костный мозг моего скелета. Еще, этого мало.
- Не умирай, ты не хочешь умирать, нет, не умирай, - напевал я, проводя пальцами по его волосам и чувствуя, как они становятся пальцами, а не когтями птеродактиля, как минуту назад. Но они согрелись; по ним разлился огонь, огонь полыхал в моих опаленных руках
и ногах, на сей раз смерть неизбежна, я больше не вынесу, однако пик уже достигнут и пройден, и теперь по мне мчались интенсивные успокаивающие спазмы.
Мое лицо накачивалось кровью и горело, рот наполнялся вновь и вновь, глотать стало совсем легко.
- Да, да, живой, ты такой сильный, удивительно сильный… - шептал я. - Мммм, нет, не уходи… еще рано, еще не время.
У него подогнулись колени. Он медленно опустился на ковер, я опустился следом, ласково притянув его за собой к краю кровати, а потом уронил его рядом, и мы лежали, сплетенные, как любовники. В нем оставалось еще, еще больше крови, столько я в обычном состоянии ни за что бы не выпил, просто не захотел бы.
Даже в тех редких случаях, когда, едва став вампиром, жадный, молодой, я убивал по две-три жертвы в ночь, я никогда не от кого так глубоко не пил. Теперь я погрузился в темные вкусные отбросы, вытягивая сладкие сгустки из самих сосудов, растворявшихся на моем языке.
- Как же ты прекрасен, да, да.
Но его сердце на большее было неспособно. Оно замедлилось и забилось в неотвратимо смертоносном ритме. Я прикусил кожу его лица и сорвал ее со лба, облизывая густую сеть кровоточащих сосудов, покрывавших его череп. Там оставалось столько крови, столько крови, скрытой тканями его лицо. Я высасывал кровь из волокон и выплевывал их, обескровленные, белые, глядя, как помои падают на пол.
Мне захотелось попробовать сердце и мозг. Я видел, как их достают древнейшие. Я знал, как это делается. Римлянка Пандора однажды просунула руку прямо в грудь.
Так я и сделал. Отметив в изумлении, что моя рука, пусть темно-коричневая, но обрела нормальные очертания, я расставил застывшие пальцы смертоносным заступом и ввел ее в него, разорвав рубашку, пробив грудную клетку, перебирая его мягкие внутренности, пока не извлек его сердце и не взял его так, как брала Пандора. Я принялся пить. О, там крови оставалось в избытке. Чудесно. Я высосал ее до мягкости и бросил на пол.
Я лег, как и он, неподвижно, рядом с ним, положив правую руку на его шею, приклонив голову у него на груди, тяжело дыша. Во мне танцевала кровь. Я чувствовал, как подергиваются руки и ноги. Мое тело содрогалось от спазмов, и его белая мертвая туша замерцала перед глазами. Комната то загоралась, то гасла.
- Какой милый брат, - прошептал я. - Милый, милый брат. - Я перекатился на спину. В моих ушах рокотала его кровь, она двигалась под кожей головы, она покалывала щеки и ладони. Как хорошо, слишком хорошо, приторно хорошо.
- Мерзавец, значит? - Голос Бенджика, из далекого мира живых.
Далеко-далеко, в царстве, где полагается играть на пианино, а маленьким мальчикам следует танцевать, стояли, словно вырезанные из раскрашенного картона, две фигурки, не сводившие с меня глаз - он, маленький разбойник из пустыни с дорогой черной сигаретой в зубах, не переставая затягиваться, шлепая губами и поднимая брови, и она, с мечтательным видом, решительная и задумчивая, как раньше, ее ничто не шокировало и, наверное, не тронуло.
Я сел и подтянул колени. Я поднялся на ноги, быстро ухватившись за край кровати, чтобы выпрямиться. Я встал, совершенно голый, и посмотрел на нее.
Ее глаза наполнились густым серым светом, она взглянула на меня и улыбнулась
- Потрясающе! - прошептала она.
- Потрясающе? - сказал я. Я поднял руки и отвел с лица волосы. - Отведи меня к зеркалу. Быстрее. Я умираю от голода. Я снова голоден. Началось, действительно. Я уставился в зеркало, как в ступоре. Мне и раньше доводилось сидеть такие же испорченные экземпляры, но каждый из нас портится по-своему, и я, не могу привести здесь алхимические причины, стал темно-коричневым существом, шоколадного цвета, с удивительно белыми опаловыми глазами, украшенными красновато-коричневыми зрачками. Щеки болезненно запали, из-под глянцевой кожи выпирали ребра, а вены, вены до того шипели действием, что, обвивали руки и икры, как веревки. Волосы, конечно, никогда еще так не блестели и не казались такими густыми, таким воплощением молодости и природных благословений.
Я открыл рот. Меня снедала жажда. Все пробудившаяся плоть пела от жажды, или же проклинала меня. Как будто тысяча раздавленных, онемевших клеток нараспев требовали крови.
- Мне нужно еще. Необходимо. Не подходите ко мне. - Я поспешно обошел Бенджика, чуть ли не плясавшего рядом со мной.
- Что ты хочешь, что мне сделать? Пойду, еще кого-нибудь приведу.
- Нет, я сам его найду. - Я упал на жертву и распустил шелковый галстук. Я быстро расстегнул пуговицы рубашки.
Бенджи немедленно кинулся расстегивать его ремень. Сибель опустилась на колени и принялась стягивать сапоги.
- Револьвер, осторожно, револьвер, - встревожился я. - Сибель, отойди от него.
- Да вижу я револьвер, - с упреком сказала она. Она осторожно отложила его в сторону, как свежевыловленную рыбу, готовую вырваться из ее рук. Она стянула с него носки.
- Арман, эта одежда, - сказала она, - тебе будет велика.
- Бенджи, у тебя найдутся ботинки? - спросил я. - У меня маленькие ноги. - Я встал и поспешно надел рубашку, застегнув пуговицы с ослепившей их скоростью.
- Не смотри на меня, неси ботинки, - сказал я. Я натянул брюки, застегнул молнию и, с помощью быстрых пальцев Сибель, закрепил болтающий кожаный ремень. Я затянул его как можно сильнее. Сойдет.
Она упала передо мной, платье окружило ее огромным цветочным кольцом прелести, и она закатала штанины моих босых коричневых ногах.
Я просунул руки в его хитроумно застегнутые манжеты, так их и не потревожив.
Бенджи бросил на пол черные бальные ботинки, дорогие туфли-лодочки, ни разу не надетые божественным маленьким негодником. Сибель поднесла к моей ноге один носок, Бенджи подобрал второй.
Я надел пиджак, и все было готово. Приятное покалывание в венах прекратилось. Опять подступила боль, она заревела, словно меня прошили огненными нитями, и ведьма резко тянула за иглу, чтобы заставить меня содрогаться.
- Полотенце, дорогие мои, что-нибудь старое, ненужное. Нет, не надо, только не в эти дни, не в это эпоху, даже не думайте.
Исполнившись отвращения, я осматривал его сине-бледную плоть. Он лежал, бессмысленно уставившись в потолок, на фоне жуткой бескровной кожи выделялись крошечные, мягкие, очень черные волоски в ноздрях, над бесцветной губой желтели зубы. Волосы на груди превратились в спутавшуюся в предсмертном поту массу, а рядом с огромной зияющей дырой лежала мякоть его бывшего сердца - нет, эти страшные улики необходимо убрать их мира общепринятых принципов.
Я нагнулся и засунул остатки раздавленного сердца в грудную клетку. Я плюнул на рану и потер ее пальцами.
Бенджи охнул.
- Смотри, Сибель, затягивается - воскликнул Бенджи.
- Поверхностно, - сказал я. - Он остыл, и крови слишком мало. - Я огляделся по сторонам. Рядом валялись бумажник, документы, кожаная сумка, куча зеленых банкнот, стянутых декоративной серебряной скрепкой. Я все подобрал. Я запихнул сложенные деньги в один карман, все остальное - в другом. Что у него еще было? Сигарета, смертельно опасный кнопочный нож и револьверы, ах да, револьверы. Я положил их в карман.
Проглотив тошноту, я нагнулся и подхватил его, жуткого, вялого, белого человека в жалких шелковых трусах и изящных золотых наручных часах. Ко мне действительно возвращалась прежняя сила. Он был тяжелым, но я с легкостью перекинул его через плечо.
- Что ты будешь делать, куда ты пойдешь? - закричала Сибель. - Арман, ты нас не бросишь.
- Ты вернешься! - сказал Бенджи. - Слушай, отдай мне часы, не выкидывай его часы.
- Тише ты, Бенджи, - прошептала Сибель. - Черт возьми, ты прекрасно знаешь, что я покупаю тебе самые лучшие часы. Не трогай его. Арман, чем мы можем тебе помочь? - Она приблизилась ко мне. - Смотри! - сказала она, указывая на болтающуюся руку, свисавшую из-под моего правого локтя. - У него маникюр. Как странно.
- А как же, он о себе неплохо заботился, - сказал Бенджи. - Знаешь, часы-то стоят тысяч пять.
- Помолчи насчет часов, - сказала она. - Нам его вещи не нужны. - Она взглянула на меня еще раз. Арман, ты даже сейчас меняешься. У тебя наливается лицо.
- Да, и болит, - сказал я. - Подождите меня. Приготовьте мне темную комнату. Я вернусь, как только поем. Сейчас мне нужно поесть, есть и есть, чтобы вылечить оставшиеся шрамы. Откройте мне дверь.
- Дай-ка я посмотрю, нет ли никого за дверью, - сказал Бенджи и послушно помчался к выходу.
Я вышел в коридор, с легкостью неся на себе бедный труп, чьи белые руки, свисая вниз, болтались и иногда меня задевали.
Ну и вид у меня был в той большой одежде. Должно быть, я производил впечатление сумасшедшего, поэтически настроенного школьника, совершившего налет на дорогие магазины за самыми изысканными тряпками, а теперь, надев красивые новые ботинки, спешил на поиски рок-групп.
- Там никого нет, мой маленький друг, - сказал я. - Три часа ночи, весь отель спит. И если разум мне не изменяет, там, в конце холла, есть дверь, ведущая на пожарную лестницу, верно? На пожарной лестнице тоже никого нет.
- Умный Арман, ты меня восхищаешь! - сказал он. Он сощурил черные глазки. Он беззвучно подпрыгивал по устланному ковром полу. - Отдай мне часы! - прошептал он.
|
|
| |
|
GolDiVampire |
Дата: Среда, 09 Май 2012, 01:55 | Сообщение # 34 |

Клан Эсте/Эрц-герцогиня Фейниэль/Мисс Хогсмит 2014

Новые награды:
Сообщений: 2778
Магическая сила:












| - Нет, - ответил я. - Она права. Она богата, я тоже, и ты тоже. Не попрошайничай.
- Арман, мы будем тебя ждать, - сказала Сибель, стоя в дверях. - Бенджи, немедленно домой!
- Нет, ты только послушай, она проснулась! Как мы заговорили! “Бенджи, немедленно домой! Эй, солнышко, разве тебе нечем заняться, не хочешь, например, на пианино поиграть?
Она невольно расхохоталась еле слышным смехом. Я улыбнулся. Странная парочка. Они не понимали, что происходит у них под носом. Типичное явление для этого века. Я недоумевал, когда же они прозреют, а, прозрев, закричат.
- До свиданья, дорогие мои, - сказал я. - Подготовьтесь к моему приходу.
- Арман, ты же вернешься. - В ее глазах стояли слезы. - Обещай мне.
Я был потрясен.
- Сибель, - сказал я. - Что за фразу женщинам так часто хочется слышать, но так долго приходится ждать? Я люблю тебя.
Я оставил их и помчался вниз по лестнице, перекинув его на другое плечо, когда слишком больно стало его нести. Боль проходила по мне волнами. Меня ошпарил холодный уличный воздух.
- Есть, - прошептал я. А с ним что делать? Он слишком голый, чтобы тащить его по Пятой авеню.
Я сорвал с него часы, потому что они оставались единственной уликой, по которой его можно было опознать, и, хотя меня чуть не вырвало от отвращения, вызванного близостью со зловонными останками, я потянул его за собой за руку, очень быстро, по заднему переулку, затем - узкой улице, потом - по очередному тротуару.
Я бежал прямо навстречу ледяному ветру, не оглядываясь на редкие неповоротливые силуэты, ковыляли мимо меня в мокрой темноте, не рассматривая одну-единственную машину, ползущей по блестящему сырому асфальту.
Я преодолел два квартала за несколько секунд и, найдя подходящий переулок с высокими воротами, преграждавшими путь запоздалым нищим, я быстро взобрался по решетке и забросил тушу в самый конец. Он упал в тающий снег. Я от него избавился.
Теперь нужно было найти кровь. Времени на старые игры не оставалось - приманивать желающих умереть, тех, кто вожделеет моего поцелуя, тех, кто уже влюблен в неизведанную, далекую страну смерти.
Пришлось идти характерно неровным шагом, спотыкаться, завесив лицо длинными волосами - болтающийся шелковый пиджак, подогнутые брюки, бедный ослепленный подросток, отличная мишень для твоего револьвера, твоего ножа, твоего кулака. Долго ждать не пришлось.
Первым был пьяный, прогуливающийся негодяй, засыпавший меня вопросами, прежде чем достать сверкающее лезвие и попробовать воткнуть его в мое тело. Прижал его к стене дома, я пил его кровь, как обжора.
Вторым стал заурядный отчаянный юноша, весь в гноящихся ссадинах, он уже совершил два убийства за героин, необходимый ему так же сильно, как мне - его обреченная кровь. Я пил уже медленнее.
Самые толстые, самые страшные шрамы без сопротивления не сдавались - они зудели, дрожали и таяли лишь постепенно. Но жажда, жажда не прекращалась. Мои внутренности пенились, словно пожирая сами себя. Глаза пульсировали от боли.
Но холодный мокрый город, терзаемый мучительным шумом, на глазах становился ярче. Я слышал голоса на расстоянии многих кварталов, слышал маленькие электронные колонки в высотных зданиях. За расступающимися облаками я увидел настоящие бесчисленные звезды. Я почти пришел в себя.
Так кто же придет ко мне, думал я, в этот голый, опустевший предрассветный час, когда на теплеющем воздухе тает снег, неоновые огни потускнели, а мокрые газеты носятся, как листья в замерзшем лесу? Я достал все бесценные предметы, принадлежавшие моей первой жертве, и рассовал их в разных местах по глубоким пустым мусорным бакам.
Последний убийца, да, пожалуйста, судьба, пришли мне его, пока еще есть время; и в самом деле, он пришел, проклятый дурак, вылез из машины, пока водитель ждал его, не глуша мотор.
- Черт, что так долго? - наконец спросил водитель.
- Ничего, - ответил я, роняя его друга на землю. Я просунул голову в машину, чтобы рассмотреть его. Такой же порочный дурак, как его спутник. Он поднял руку, беспомощно, слишком поздно. Я опрокинул его на кожаное сиденье и пил теперь ради грубого удовольствия, ради сладостного, безумного наслаждения.
Я медленно шел по ночному городу, раскинув руки, подняв глаза к небесам.
Из разбросанных по блестящей улице черных решеток валил белоснежный дым. На синевато-серых тротуарах сверкала фантастическая выставка мусора в сверкающих пластиковых пакетах.
Нежные крошечные деревья с вечнозелеными листьями, ночью похожими на короткие ярко-зеленые штрихи, сделанные пером, склонили свои стволы-лепестки под гнетом воющего ветра. Куда ни глянь, за высокими чистыми стеклянными дверьми гранитных фасадов скрывалось лучащееся великолепие богатых вестибюлей. В витринах демонстрировались искрящиеся бриллианты, глянцевитые меха, элегантные костюмы и платья на безлицых оловянных манекенах с пышными прическами.
Собор стоял, безмолвный и темный, с покрытыми инеем башенками и старинными остроконечными арками, на том же самом чистом тротуаре, что и в то утро, когда меня застигло солнце.
Задержавшись там, я закрыл глаза, возможно, стараясь припомнить удивление и рвение, храбрость и великие ожидания.
Вместо этого, чистые и сияющие, темный воздух прорезали чистые ноты “Апассионаты”. Раздраженная, грохочущая, торопливая, музыка обрушалась на меня, чтобы позвать домой. Я пошел за ней.
Часы в холле отеля били шесть. Через несколько мгновений зимний мрак расступится, как лед, ставший моей тюрьмой. За неясно освещенной длинной отполированной стойкой никого не было.
В висевшем на стене тусклом зеркале, в золотой раме стиля рококо, я увидел свое отражение - побледневшее, восковое, ни единого пятнышка. Как же повеселились со мной по очереди солнце и лед, когда второй заморозил безжалостной хваткой следы ярости первого. Ни одного шрама не осталось там, где кожа впечаталась в мускулы. Я превратился в запаянное, прочное существо с цельной, страдающей душой, отлитый из одного куска, восстановившийся, с искрящимися, чистыми, белыми ногтями, с загибающимися вверх ресницами вокруг ясных карих глаз, одетый в жалкую кипу грязной, не по росту роскоши знакомого крепкого херувима.
Никогда еще я так не радовался своему слишком юному лицу, безволосому подбородку, слишком мягким и тонким рукам. Но в тот момент я был готов благодарить древних богов за то, что дали мне крылья.
Музыка наверху продолжалась, величественная, насыщенная трагедией, страстным и неустрашимым духом. Как же мне нравилась эта музыка. Кто еще во всем мире смог бы так играть одну и ту же сонату, как она, чтобы каждая фраза получалась не менее свежей, чем песни, что на протяжении всей своей жизни поют птицы, знакомые только с одной музыкальной моделью.
Я посмотрел по сторонам. Первоклассное, дорогое место, несколько глубоких кресел, на стене в крошечных потемневших деревянных отделениях выстроились в ряд ключи от номеров.
На круглом черном мраморном столе, в самом центре, в дерзком великолепии стояла огромная ваза с цветами, непременная торговая марка классического нью-йоркского отеля. Я обогнул букет, отломив большую розовую лилию с ярко-красным горлом и закручивающимися, желтеющими снаружи лепестками, и тихо пошел по пожарной лестнице к моим детям.
Когда Бенджи впустил меня, она не остановилась.
- Знаешь, ангел, а ты неплохо выглядишь, - сказал он.
Она продолжала играть, непосредственно покачивая головой в такт сонате.
Он провел меня через цепочку хорошо обставленных, оштукатуренных комнат. Моя была слишком роскошная, прошептал я, увидев растянутые гобелены и подушки, расшитые старинным потертым золотом. Мне нужна только полная темнота.
- Но меньше у нас ничего нет, - пожал он плечами. Он переоделся в свежие белые льняные одеяния в тонкую голубую полоску, такие часто встречаются в арабских странах. Он одел белые носки и коричневые сандалии. Он дымил турецкой сигареткой и прищурился, глядя на меня через дым.
- Ты принес мне часы, да? - Он кивнул, воплощение сарказма и веселья.
- Нет, - сказал я и сунул руку в карман. - Но деньги можешь взять. Скажи мне, раз уж твой ум - настоящий медальон, а ключа у меня нет, никто не видел тебя с тем подонком с полицейским значком и револьвером?
- Да мы с ним все время встречаемся, - устало мотнул он головой. - Мы ушли из бара по отдельности. Я убил двух зайцев. Я очень хитрый.
- Почему? - спросил я и вложил лилию в его ручонку.
- У него покупал брат Сибель. Никто по нему не скучал, кроме этого полицейского. - Он хихикнул. Он заткнул лилию в густые кудри над левым ухом, потом вытащил и покрутил в пальцах ее крошечный стебелек. - Хитро, да? Теперь его никто не хватится.
- И правда, двух зайцев убил, ничего не скажешь, - сказал я. - Хотя я уверен, что этим дело не ограничится.
- Но теперь ты нам поможешь, правда?
- Конечно, помогу. Я же сказал, я очень богат. Я все улажу. У меня к таким делам инстинкт. В одном далеком городе я владел большим театром, а после этого - целым островом с дорогими магазинами, и так далее. Похоже, я в многих отношениях монстр. Тебе больше никогда, никогда не придется бояться.
- А знаешь, ты правда очень красивый, - сказал он, поднимая одну бровь и быстро подмигивая мне. Он затянулся своей вкусной на вид сигареткой и протянул ее мне. В левой руке он крепко держал лилию.
- Не могу. Я только пью кровь, - сказал я. - В основном я - настоящий вампир из книжки. При свете дня нужна полная темнота, а день наступит очень скоро. Не вздумай трогать дверь.
- Ха! - засмеялся он с бесовским восторгом. - Так я ей и сказал! - Он закатил глаза и глянул в направлении гостиной. - Я сказал, что нужно скорее украсть для тебя гроб, но она ответила - нет, ты бы об этом подумал.
- Она совершенно права. Эта комната подходит, но гробы я тоже люблю. Правда.
- А нас ты можешь тоже сделать вампирами?
- Нет, ни за что. Ни в коем случае. У вас чистые сердца, вы слишком живые, и потом, у меня нет такой силы. Так не делают. Нельзя.
Он опять пожал плечами.
- Тогда кто сделал тебя? - спросил он.
- Я родился из черного яйца, - сказал я. - Как и все мы.
Он издевательски засмеялся.
- Ну, остальное ты видел, - сказал я. - Почему бы не поверить в самое лучшее?
Он только улыбнулся, выдохнул дым и посмотрел на меня взглядом мошенника.
Пианино пело грохочущими каскадами, быстрые ноты таяли, едва успев родиться, совсем как последние тонкие зимние снежинки, исчезающие, не упав на тротуар.
- Можно, я поцелую ее перед тем, как идти спать? - спросил я.
Он наклонил голову набок и пожал плечами.
- Если ей это не понравится, она все равно не прекратит играть, чтобы сказать об этом.
Я вернулся в гостиную. Как там было свободно - величественные и пышные французские пейзажи с золотыми облаками и кобальтовыми небесами, китайские вазы на подставках, собранный складками бархат, ниспадающий с высоких бронзовых прутьев, закрывая узкие старинные окна. Комната предстала передо мной единой картиной, включая ту кровать, где я лежал, теперь заваленную свежими пуховыми одеялами и подушками с вышитыми на них старинными лицами.
А она, центральный бриллиант в длинной белой фланелевой рубашке, отделанной на запястье и у ворота густыми старинными ирландскими кружевами, играла проворными уверенными пальцами на длинном лакированном рояле, и ее волосы светились на плечах гладким желтым светом.
Я поцеловал ее ароматные локоны и нежную шею, перехватил ее детскую улыбку и сверкнувший взгляд, и она продолжила играть, запрокинув голову, прикоснувшись спереди к моей одежде.
Я положил руки вокруг ее шеи. Ее гибкое тело прислонилось ко мне. Я скрестил руки на ее талии. Я чувствовал, как в моих уютных объятьях вслед за стремительными пальцами двигаются ее плечи.
Я осмелился, сжав губы, тихим шепотом напеть мелодию, и она запела вместе со мной.
- “Апассионата”, - прошептал я ей на ухо. Я плакал. Я не хотел пачкать ее кровью. Она была слишком чистая, слишком красивая. Я отвернулся. Она бросилась вперед. Ее руки забарабанили громовую концовку. Резко наступила тишина, хрустальная, как сама музыка. Она повернулась, обняла меня, крепко сжала и произнесла слова, которых ни один смертный не говорил мне за всю мою долгую бессмертную жизнь:
- Арман, я люблю тебя.
23
Стоит ли и говорить, что они - идеальные спутники? Никто из них не обращает внимания на убийства. Я не мог бы объяснить этого даже ради спасения собственной жизни. Их волнуют другие вещи - мир во всем мире, бедные страдающие бездомные в холодном Нью-Йорке идущей на спад зимой, цены на лекарства для больных, как ужасно, что Израиль и Палестина без конца воюют друг с другом. Но они и на секунду не задумались об ужасах, случившихся на их глазах. Им все равно, что я каждую ночь убиваю ради крови, что я питаюсь только кровью, ни чем иным, что я по самой своей природе связан с уничтожением человека.
Они ни на секунду не задумались о мертвом брате (его, кстати, звали Фоксом, а фамилию моей прекрасной дочери лучше не упоминать).
Кстати, если этот текст когда-нибудь выйдет в свет, в реальный мир, ты будешь обязан изменить как ее имя, так и имя Бенджамина.
Однако не это меня сейчас волнует. Я не могу думать о судьбе этих страниц в ином свете, только о том, что они в основном предназначены для нее, я уже упоминал об этом, и, если мне будет позволено дать им название, я озаглавлю их “Симфония для Сибель”.
Нет, пойми, пожалуйста, что Бенджика я люблю не меньше. Дело в том, что я не испытываю настолько всепоглощающей потребности оберегать его. Я знаю, что Бенджи проживет грандиозную, полную приключений жизнь, что бы ни случилось со мной, с Сибель или даже с нашими временами. Такова его гибкая и выносливая природа бедуина. Он - истинное дитя палаток и диких песков, хотя в его случае домом служил унылый спаленный квартал лачуг на окраине Иерусалима, где он убеждал туристов за несоразмерную цену позировать вместе с ним и с грязным огрызающимся верблюдом.
Фокс откровенно похитил, на преступных условиях долгосрочной аренды, за что заплатил пять тысяч долларов. К сделке присовокупили сфабрикованный паспорт эмигранта. Он был, несомненно, гениальным представителем своего племени, со смешанным чувством относился к возвращению домой и на нью-йоркских улицах научился воровать, курить и ругаться, именно в этом порядке. Хотя он клялся всем на свете, что не умеет читать, выяснилось, что все-таки умеет, чем он и занялся, как одержимый, как только я начал забрасывать его книгами.
Фактически он умел читать по-английски, по-арабски и на иврите, поскольку у себя на родине читал на этих языках газеты с незапамятных времен.
Он любил заботиться о Сибель. Он присматривал, чтобы она ела, пила молоко, принимала ванну и переодевалась когда ее совершенно не интересовали подобные рутинные мероприятия. Он гордился тем, что своим умом может раздобыть для нее все необходимое, что бы с ней ни происходило.
Он стал ее представителем в отеле, раздавая чаевые, ведя нормальные разговоры с портье, включая и удивительно тонко сплетенную ложь о местонахождении покойного Фокса, который в нескончаемой саге Бенджика превратился в прославленного путешественника и фотографа-любителя; он устраивал визиты настройщика, кого приходилось вызывать раз в неделю, так как пианино стояло у окна на солнце и на холоде, а Сибель при этом била по клавишам с яростью, удивившей бы самого Бетховена. Он звонил по телефону в банк, где весь персонал считал его старшим братом, Давидом, а потом являлся за наличными к окошечку кассы в качестве маленького Бенджамина.
Через несколько ночей разговоров я убедился, что могу дать ему такое же превосходное образование, как то, что дал мне Мариус, и что в результате он должен получить возможность выбрать любой университет, профессию или любительское занятие умственной природы. Я не раскрывал свои карты. Но к концу недели я мечтал, чтобы он попал в частную школу, откуда он выйдет завоевателем общественности американского восточного побережья, в синей куртке с золотыми пуговицами.
Я люблю его до такой степени, что разорвал бы на части любого, кто прикоснулся бы к нему хоть пальцем.
Но с Сибель нас связывает симпатия, которая иногда не посещает как смертных, так и бессмертных на протяжении всей жизни. Я понимаю Сибель. Я ее знаю. Я понял ее в тот момент, когда впервые услышал ее игру, понимаю и сейчас, и если бы она не находилась под защитой Мариуса, я бы сейчас с тобой не разговаривал. На протяжении всей жизни
Сибель я никогда с ней не расстанусь, и дам ей все, о чем она ни попросит.
Когда Сибель умрет, а это неизбежно, я испытаю невыразимую боль. Но это придется перенести. В этом вопросе у меня нет выбора. Я уже не тот, кем был, когда увидел покрывало Вероники, когда вышел на солнце.
Я другой, и этот другой беспредельно и окончательно полюбил Сибель и Бенджамина, и отступать мне нельзя.
Конечно, я прекрасно сознаю, что я питаюсь этой любовью; став счастливее, чем когда-либо прежде за всю свою бессмертную жизнь, я набрался сил от этих спутников. Эта ситуация слишком идеальна, чтобы считать ее не чистой случайностью, а чем-то иным.
Сибель не безумна. Это чрезвычайно далеко от истины, и я воображаю, что прекрасно ее понимаю. С того момента, когда она впервые прикоснулась руками к роялю, остальное ей стало не нужно. И ее “карьера”, так благородно спланированная для нее гордыми родителями и сгорающим от амбиций Фоксом, никогда не имела для нее особенного значения.
Будь она бедна, терпи она лишения, то призвание публики, наверное, стало бы неотъемлемой частью ее романа с музыкой, давая ей необходимую возможность бежать от ужасной западни жизненной обыденности и рутины. Но бедной она никогда не была. И она до глубины души остается абсолютной равнодушной, услышат люди ее музыку, или нет.
Ей нужно только слышать ее самой и знать, что она не беспокоит окружающих.
В том старом отеле, где комнаты в основном сдаются на несколько дней, где лишь горстка жильцов настолько богаты, что могу позволить себе жить там годами, как семья Сибель, она может играть без конца и никого не беспокоить.
А после смерти родителей, лишившись двух единственных близких свидетелей ее развития, она просто не могла дальше сотрудничать с Фоксом в вопросах своей карьеры.
Что ж, все это я понял практически с самого начала. Я понял это по ее бесконечному повторению сонаты № 21, и, думаю, доведись тебе ее услышать, ты тоже это понял бы. Я хочу, чтобы ты ее послушал. Понимаешь, Сибель совершенно не смущает, если ее соберутся послушать другие. Если ее будут записывать, она не засуетится. Если другим нравится ее слушать, если ей говорят об этом, она приходит в восторг. Но у нее все очень просто. “А, значит, вам тоже нравится? - думает она. - Красиво, правда?” Вот что мне сказали ее глаза и улыбки, когда я впервые к ней приблизился.
И, полагаю, прежде чем продолжать - а мне есть, что написать о своих детях, стоит разобраться с вопросом: а как я приблизился к ней? Как я оказался в ее квартире в то роковое утро, когда Дора стояла в соборе и кричала толпе о таинственном покрывале, а я летел к небесам, и кровь в моих воспламенившихся венах?
Я не знаю. Я располагаю утомительным сверхъестественным объяснением, подобным тем, которыми забивают тома члены Общества Изучения Экстрасенсорных Явлений или сценарии для Малдера и Скалли в телесериале “Секретные материалы”. Или тайные файлы - в случае архивов ордена психодетективов под названием “Таламаска”.
Грубо говоря, я рассматриваю вижу это примерно так. Я обладаю исключительно сильными способностями оказывать гипнотическое воздействие, перемещать свое зрение, пересылать свой образ на расстояние и воздействовать на материю как на близком расстоянии, так и в тех случаях, когда она находится вне поля зрения. Должно быть, я каким-то образом, во время утреннего путешествия к облакам воспользовался этой силой. Возможно, она вырвалась из меня в момент душераздирающей боли, когда я во всех отношениях полностью вышел из строя и абсолютно не сознавал, что со мной происходит. Возможно, то был последний, отчаянный, истерический отказ смириться с возможностью смерти, или же с ужасным, близким к смерти положением, в котором я оказался.
То есть, упав с крыши, обгорев, испытывая невыразимые мучения, я, возможно, нашел способ отчаянного мысленного избавления, спроецировав свой образ и силу в комнату Сибель, и их хватило, чтобы убить ее брата. Для духов, разумеется, невозможно осуществить достаточное воздействие на материю, чтобы ее изменить. Значит, может быть, именно так я и сделал - спроецировал себя в духовной форме, положил руки на материю - Фокса - и убил его.
Но на самом деле я в это не верю. Я объясню, почему. Прежде всего, хотя Сибель и Бенджамин, несмотря на всю свою показную, полную здравого смысла отрешенность, не эксперты в вопросах смерти и последующей судебной экспертизы, оба настаивают, что, когда они избавлялись от трупа Фокса, он был обескровлен. На шее явственно виднелись раны от укуса. То есть, они и по сей час верят, что я присутствовал там в материальной форме, и что я действительно выпил кровь Фокса. Этого спроецированный образ сделать не может, во всяком случае, насколько мне известно. Нет, он не сможет поглотить кровь целой кровеносной системы, а потом раствориться, вернуться к системе мозга, откуда и появился. Нет, такое невозможно.
Конечно, Сибель и Бенджи могут заблуждаться. Что они знают о крови и трупах? Но они фактически, по их словам, оставили мертвого Фокса пролежать два дня, ожидая, пока им не поможет дибук - или ангел. Но за такой срок кровь человеческого тела оседает на самую нижнюю часть трупа, и дети не могли бы не заметить такую перемену. Они же ничего не заметили.
Нет, у меня от этого голова разболелась! Суть в том, что я не знаю, как и почему я попал в их квартиру. Я не знаю, как это произошло. Но я знаю, как я уже говорил, что все, увиденное мной в великом восстановленном киевском соборе, в невероятном месте, было не менее реально, чем происшествие в квартире Сибель.
Есть и еще один маленький момент, но пусть он и маленький, он критически важный. После того, как я убил Фокса, Бенджи видел, как с неба упало мое обгорелое тело. Он видел меня, как я видел его, из окна.
Существует одна ужасная возможность. Вот в чем она заключается. Тем утром я должен был умереть. Я умер бы. Мое вознесение совершилось под действием безмерной воли и безмерной любви к Богу, в которой я, диктуя сейчас эти слова, не сомневаюсь.
Но, возможно, в критический момент мужество меня подвело. Меня подвело мое тело. И, ища убежища от солнца, стараясь пресечь свое мученичество, я наткнулся на неприятности Сибель и ее брата, и, почувствовав, как сильно я ей нужен, я начал падать к укрытию на крыше, где меня быстро накрыл снег и лед. Мой визит к Сибель, согласно этому толкованию, мог быть лишь преходящей иллюзией, сильной проекцией самого себя, выполнение потребности этой выбранной наугад, уязвимой девушки, которой грозили смертельные побои со стороны брата.
Что касается Фокса, я, несомненно, убил его. Но умер он от страха, может быть, когда я надавил иллюзорными руками на его хрупкое горло, его сердце не выдержало - телекинез или внушение. Но я уже сказал, что не верю в это.
Я побывал в киевском соборе. Я проломил пальцами скорлупу. Я видел, как птица вылетела на свободу.
Я знаю, что рядом стояла моя мать, я знаю, что мой отец перевернул чашу. Я знаю, потому что уверен - ни одна частица меня не могла бы вообразить себе такое. Знаю - потому что увиденные мной краски и услышанная музыка не были придуманы, и прежде я такого не испытывал.
Ведь ни об одной из своих предыдущих грез я такого сказать не могу. Когда я произносил слова мессы в Киеве, я находился в царстве, состоящим из ингредиентов, которыми мое воображение просто не располагает.
Я больше не хочу об этом говорить. Анализировать - слишком болезненно и ужасно. Я не собирался этого делать, насколько сознавало мое сердце, и у меня не было над этим сознательной власти. Так просто получилось.
Если бы я смог, я бы вообще забыл об этом. Я так невероятно счастлив с Сибель и Бенджи, что, естественно, на время их жизни я хочу забыть обо всем. Я хочу только находиться рядом с ними, что я и делаю с описанной мной ночи.
Ты видишь, что я не торопился прийти сюда. Вернувшись в ряды опасных Живых мертвецов, мне было очень легко разузнать в блуждающих умах других вампиров, что Лестат находится в своем заточении в безопасности и даже диктует тебе всю историю, случившуюся с ним, с Богом во плоти и с Мемноком-дьяволом.
Мне было очень легко разузнать, не обнаруживая собственного присутствия, что весь мир вампиров скорбит по мне со слезами и с большей болью, чем я мог предсказать.
Таким образом, уверенный в безопасности Лестата, сбитый с толку, но испытывая облегчения от того, что к нему таинственным образом вернулся его похищенный глаз, я имел возможность пожить в свое удовольствие с Сибель и Бенджи, что я и сделал.
С Бенджи и Сибель я снова воссоединился с миром, чего не случалось с тех пор, как меня покинул единственный созданный мной вампир, Дэниел Маллой. Моя любовь к Дэниелу всегда оставалась несколько нечестной, а также сплеталась с моей ненавистью к миру в целом и смятением перед лицом современного мира, который начал открываться передо мной в тот момент, когда в конце восемнадцатого века я вышел из вырытых под Парижем катакомб.
Сам Дэниэл считал, что ему этот мир ни к чему, он пришел ко мне, когда жаждал Темной Крови, когда в его мозгу плавали мрачные гротескные истории, рассказанные ему Луи де Пуант дю Лаком. Забросав его кипами всевозможных богатств, я добился только того, что его тошнило от смертных сластей, и в результате он отвернулся от предложенной мной роскоши, превратившись в бродягу. Бродя в полубезумном состоянии по улицам, одетый в лохмотья, он отказался от мира до такой степени, что стоял на пороге смерти, а я, существо слабое, испорченное, терзаемое его красотой, вожделея живого человека, а не того вампира, каким он мог бы стать, перенес его к нам, исполнив Темный Трюк, только потому, что иначе он бы умер.
После этого я не стал для него никаким Мариусом. Все вышло в точности, как я предполагал: в глубине души он ненавидел меня за то, что я посвятил его в Живую Смерть, за то, что в одну ночь превратил его как в бессмертного, так и в типичного убийцу.
Смертным человеком он не представлял себе, какой ценой мы платим за свое существование, и правду знать не хотел; он бежал от нее в беспокойные сны и злобные странствия.
Получилось так, как я и боялся. Сделав его своим товарищем, я получил любовника, все яснее видевшего во мне чудовище.
У нас так и не было периода невинности, у нас не было весны. У нас не было ни единого шанса, какие бы нас ни окружали прекрасные сумеречные сады. Наши души были настроены на разные волны, наши желания пересекались, а зерно нашей взаимной неприязни попало в слишком благодатную почву, чтобы не зацвести. Сейчас все по-другому.
Два месяца я прожил в Нью-Йорке с Сибель и Бенджи, прожил так, как никогда не жил с тех давно прошедших ночей с Мариусом в Венеции.
Я, кажется, уже говорил, что Сибель богата, но она богата утомительным, неровным богатством, ее доходы идут на оплату ее непомерных апартаментов и ежедневного питания в номере, остаток идет на дорогую одежду, билеты на симфонические концерты и некоторые стихийные траты и шалости.
Я невероятно богат. Так что первым делом я с удовольствием осыпал Сибель и Бенджика роскошью, которой прежде осыпал Дэниела Маллоя, но с куда большей пользой. Им это понравилось.
Когда Сибель не играет на пианино, она совершенно не возражает против того, чтобы пойти с нами с Бенджи в кино, на симфонический концерт или в оперу. Ей нравился балет, она любила водить Бенджика в самые лучшие рестораны, где он прославился среди официантов своим резким энергичным голоском и распевной манерой совершать набеги на названия блюд, французских и итальянских, заказывая коллекционные вина, которые ему наливались беспрекословно, невзирая на полные добрых намерений законы, запрещающие подавать детям спиртное. Мне, конечно, это тоже очень нравилось, и я в восторге обнаружил, что у Сибель появилась случайная и игривая привычка одевать меня, выискивать куртки, рубашки и тому подобное из кип одежды на полках, быстро указывая пальцем, а также выбирать мне с бархатных подставок всевозможные кольца с дорогими камнями, запонки, цепочки, крошечные распятия из золота и рубинов, золотые скрепки для денег и так далее.
Я в совершенстве освоил эту игру с Дэниэлом Маллоем. Сибель играет в нее со мной, по-своему, мечтательно, пока я улаживаю утомительные дела с кассиром.
Я, в свою очередь, получаю огромное удовольствие, таская за собой Бенджика, как куклу, и заставляя его иногда одеваться в дорогое западное платье, хотя бы на один-два часа.
Мы представляем собой поразительную троицу, когда обедаем втроем в “Лютеции” или в “Искрах” (я, разумеется, не обедаю) - Бенджи в безупречных одеждах пустыни или в отлично сидящем пиджачке с узкими отворотами, в белой рубашке на пуговицах и ярком галстуке; я в своем вполне приемлемом старинном бархате и стоячими воротниками из старых рассыпающихся кружев; и Сибель в очаровательном платье из тех, что рекой льются из ее шкафа, туалетами, что покупали ей мама и Фокс, облегающие ее пышную грудь и тонкую талию, обязательно волшебным образом развевающиеся вокруг длинных ног, достаточно короткие, чтобы обнажать великолепный изгиб ее упругих икр, когда она надевает на обтянутые темными чулками ноги туфли с каблучками-кинжалами. Коротко подстриженная шапка кудрей Бенджика - византийский нимб вокруг загадочного темного личика, ее развевающиеся волны распущены, мои волосы вернулись в прежнее состояние, какими они были в эпоху Возрождения - копна длинных неуправляемых локонов - предмет моей тайной тщеславной гордости в те времена.
С Бенджи мое главное наслаждение - это обучение. С самого начала мы завели основательные разговоры о истории, обо всем мире, в результате растянулись на ковре, разглядывая карты, обсуждая общий прогресс Востока и Запада, неизбежное влияние климата, культуры и географии на человеческую историю. Во время новостных передач по телевизору Бенджи самозабвенно бормочет, называет каждую знаменитость интимно, по имени, гневно стучит кулаком узнав о действиях мировых лидеров и громко завывает, случись умереть великой принцессе или гуманисту. Бенджи может смотреть новости, непрерывно говорить, есть попкорн, курить сигарету и периодически подпевать музык Сибель - более или менее одновременно.
Если я, не отрываясь, смотрю на дождь, как будто увидел призрака, Бенджи непременно колотит меня по руке и кричит:
- Что нам делать, Арман? У нас на вечер - три отличных фильма. Меня это бесит, понимаешь, бесит, потому что если мы пойдем хоть на один из них, мы не попадем на Паваротти в “Метрополитен”, я уже зеленею, меня сейчас вырвет.
Мы часто одеваем Сибель вдвоем, а она смотрит на нас, словно не понимает, что мы делаем. Мы всегда сидим и разговариваем с ней, когда она принимает ванну, иначе она, скорее всего, заснет в ванне или просто просидит там много часов, поливая водой свою прекрасную грудь.
Иногда она за всю ночь не говорит ничего, кроме “Бенджи, завяжи шнурки” или “Арман, он украл столовое серебро. Скажи ему, пусть положит на место” или с неожиданным удивлением: “Тепло сегодня, правда?”
Я никогда никому не рассказывал историю своей жизни, как рассказываю ее тебе, но в разговорах с Бенджи я обнаружил, что объясняю ему многое из того, чему учил меня Мариус - о человеческой природе, об истории права, о живописи и даже о музыке.
Скорее всего, в ходе этих разговоров я постепенно за два месяца осознал, что изменился.
Во мне исчез некий удушающий темный ужас. Я больше не рассматриваю историю как панораму катастроф; я часто ловлю себя на том, что вспоминаю благородные и восхитительно оптимистичные предсказания - что мир постоянно совершенствуется; что война, невзирая на окружающий нас разлад, тем не менее вышла из моды у власть имущих и вскоре уйдет с арен Третьего мира, как ушла с арен запада; и мы действительно накормим голодных, приютим бездомных и будем заботиться о тех, кто нуждается в любви.
С Сибель, образование и разговоры не являются основой нашей любви. С Сибель это интимность. Мне все равно, пусть она никогда ничего не говорит. Я не читаю ее мысли. Ей это не понравилось бы.
Так же всецело, как она принимает меня и мою природу, я принимаю ее и ее одержимость “Аппасионатой”. Час за часом, ночь за ночью я слушаю, как играет Сибель, и с каждым свежим началом я замечаю мгновенные перемены интенсивности и выражения, льющегося из-под ее пальцев. Благодаря этому я постепенно стал единственным слушателем, в чем присутствии Сибель отдает себе отчет.
Постепенно я стал частью музыки Сибель. Я всегда с ней и с ее фразами и частями “Апассионаты”. Я рядом, и я единственный, кто никогда ничего не просил у Сибель - только чтобы она делала то, что ей хочется, то, что она делает безупречно. Больше Сибель никогда ничего не придется для меня делать - только то, что ей захочется. Если ей когда-нибудь захочется “подняться в глазах общественности”, я расчищу ей дорогу. Если она когда-нибудь захочет остаться одна, она не увидит меня и не услышит. Если ей когда-нибудь чего-нибудь захочется, я ей это достану.
И если она когда-нибудь полюбит смертного мужчину или смертную женщину, я сделаю, как она захочет. Я могу жить в тени. Преданный ей, я могу вечно жить во мраке, потому что когда я рядом с ней, мрака не бывает.
Сибель часто ходит со мной на охоту. Сибель любит смотреть, как я пью кровь и убиваю. Кажется, я прежде никогда не позволял такого смертным. Она старается помочь мне избавиться от останков или запутать улики, указывающие на следы смерти, но я очень сильный, быстрый и способный, поэтому она в основном свидетель.
Я стараюсь не брать Бенджика на подобные эскапады, потому что он дико, по-детски возбуждается, что не идет ему на пользу. На Сибель это никак не влияет.
Я мог бы рассказать тебе и о других вещах - как мы уладили дело с исчезновением ее брата, как я перевел огромные суммы денег на ее имя и основал соответствующие нерушимые трастовые фонды для Бенджика, как я купил ей значительный процент акций отеля, где она живет, и поставил в ее апартаменты, громадные по масштабам отеля, несколько превосходных роялей, которые ей нравятся, как я устроил для себя на безопасном расстоянии от отеля логово с гробом, которое нельзя отыскать и уничтожить, куда нельзя проникнуть, куда я при случае ухожу, хотя больше я привык спать в маленькой комнате, выделенной мне с самого начала, где к единственному окошку, выходящему на вентиляционную шахту, плотно прикрепили шторы. Но черт с ним. Ты узнал то, о чем я хотел поставить тебя в известность.
Остается только подвести нас к настоящему, к сегодняшнему закату, когда я пришел сюда, в самое логово вампиров рука об руку с моим братом и сестрой, чтобы, наконец, увидеть Лестата.
|
|
| |
|
GolDiVampire |
Дата: Среда, 09 Май 2012, 01:56 | Сообщение # 35 |

Клан Эсте/Эрц-герцогиня Фейниэль/Мисс Хогсмит 2014

Новые награды:
Сообщений: 2778
Магическая сила:












| 24
Все получается как-то слишком просто, правда? То есть, мое превращение из маленького религиозного фанатика, стоявшего на ступенях собора, в счастливого монстра, решившего одной весенней ночью в Нью-Йорке, что пора совершить путешествие на юг и зайти проведать старого друга. Ты знаешь, зачем я пришел.
Начнем с раннего вечера. Когда я прибыл, ты был в молельне.
Ты приветствовал меня с нескрываемой радостью, довольный от того, что я жив и невредим. Луи чуть не заплакал.
Остальные, та молодежь в обносках, что набилась внутрь, два юноши, кажется, и девушка, я не знаю, кто они, до сих пор не знаю, но позже они разбрелись.
Я в ужасе увидел, что он, беззащитный, лежит на полу, а его мать, Габриэль, стоит в дальнем углу и просто смотрит на него, холодно, как она смотрит на всех и вся, словно никогда не знала, что такое человеческие чувства.
Я пришел в ужас от того, что поблизости болтаются молодые бродяги, и почувствовал необходимость защитить Сибель и Бенджика. Я не испытывал страха от того, что им придется увидеть наших классиков, легенды, воителей - тебя, моего любимого Луи, даже Габриэль, и уж конечно Пандору и Мариуса, всех, кто там собрался.
Но я не хотел, чтобы мои дети видели заурядный сброд, накачанный нашей кровью, и по обыкновению подумал, наверное, тщеславно и высокомерно - откуда вообще взялись эти гнусные бродячие недоросли? Кто создал их, когда и зачем? В такие моменты во мне просыпается старое, неистовое Дитя Тьмы, Глава Собрания под парижским кладбищем, отдававший приказ, когда и как передать Темную Кровь, и прежде всего - кому. Но эта старая привычка властвовать обманчива и в лучшем случае раздражает.
Я возненавидел тех, кто сюда затесался, потому что они смотрели на Лестата, как на достопримечательность во время карнавала, а я такого не потерпел бы. Я почувствовал прилив бешенства, тягу к разрушению.
Но у нас не существует правил, допускающих столь опрометчивые поступки. И кто я такой, чтобы устраивать смуту здесь, под твоей крышей? Нет, тогда я не знал, что здесь живешь, но ты, безусловно, охранял хозяина дома, а ты впустил их, головорезов, вскоре после этого появились еще трое-четверо, они осмелились окружить его, но, как я заметил, не подходил слишком близко.
Конечно, всех особенно заинтересовали Сибель и Бенджамин. Я тихо велел им держаться непосредственно рядом со мной и не разбродиться. Сибель не могла выбросить из головы мысль о том, что неподалеку есть пианино, способное придать ее сонате совершенно новое звучание. Что касается Бенджика, он вышагивал как маленький самурай, круглыми, как блюдца, глазами высматривая повсюду монстров, хотя он гордо поджал строгий маленький рот.
Молельня показалась мне красивой. Как же иначе? Чистые, белые оштукатуренные стены, сводчатый потолок, как в древних церквях, а там, где стоял алтарь - глубокая ниша, настоящий колодец звука, каждый шаг тихим эхом разносится по всему зданию.
Еще с улицы я рассмотрел ярко освещенные витражи. Бесформенные, они, тем не менее сохраняли свою прелесть благодаря блестящим синим, красным и желтым краскам и простому змеевидному дизайну. Мне понравились старые черные надписи, посвященные давно ушедшим смертным, в чью память было сооружено каждое окно. Мне понравились разбросанные повсюду старые гипсовые статуи, которые я помог тебе вывезти из нью-йоркской квартиры и отослать на юг.
Тогда я не особенно к ним приглядывался; я отгородился от их стеклянных очей, как от глаз василисков. Но теперь я не преминул рассмотреть их получше.
Среди них я нашел милую страдалицу, Святую Риту, в черном облачении и белом апостольнике, со страшной, жуткой ссадиной на лбу, зияющей, как третий глаз. Была там и очаровательная, улыбающаяся Святая Тереза из Лизьо, Маленький Цветок Иисуса с распятием и букетом розовых роз в руках.
Поодаль стояла Святая Тереза Авильская, вырезанная из дерева, с тонкой работы росписью, поднявшая глаза к небесам, настоящий мистик, а в руке - перо, характеризующее ее как доктора богословия. Был там и Святой Людовик с короной Франции; и, конечно, Святой Франциск, в скромной коричневой монашеской рясе, собравший вокруг себя прирученных животных; и другие, чьих имен я, стыдно признаться, не знаю.
Но даже больше, чем статуи, беспорядочно расставленные по комнате, как хранители старой священной истории, меня поразили картины на стене, изображавшие восхождение Христа на Голгофу. Кто-то развесил их в надлежащем порядке, может быть, еще до того, как мы вошли в мир этого дома.
Я догадывался, что они написаны маслом по меди, в них присутствовал стиль Возрождения, конечно, имитация, но имитация того рода, которую я нахожу нормальной и люблю.
Страх, затаившийся во мне за все счастливые недели, проведенные в Нью-Йорке, немедленно всплыл на поверхность. Нет, не столько страх, сколько ужас.
Господи, прошептал я. Я повернулся и поднял глаза к лицу Христа на распятии, висевшим высоко над головой Лестата.
Мучительный момент. Я думаю, на резное дерево наложилось изображение с покрывала Вероники. Я уверен. Я снова оказался в Нью-Йорке, где Дора подняла покрывало повыше, чтобы мы могли его рассмотреть.
Я увидел его темные, прекрасно оттененные глаза, идеально запечатленные в ткани, словно они составляли ее часть, но ни в коем случае не впитались в нее, темные полоски его бровей и, над его ровным, безропотным взглядом - ручейки крови, текущие от терновых шипов. Я увидел его полуоткрытые брови, словно он мог говорить вечно.
Я резко осознал, что с далеких ступеней алтаря на меня устремлены ледяные серые глаза Габриэль, я запер мысли, а ключ проглотил. Я не дам ей трогать ни меня, ни мои мысли. Я ощетинился и настроился враждебно по отношению ко всем, кто собрался в комнате.
Потом пришел Луи. Он очень обрадовался, что я не умер. Он хотел кое-что сказать. Он знал, что меня волнует, и сам нервничал из-за присутствия чужаков. Он выглядел, как и прежде, аскетом, одеваясь в изношенные черные наряды прекрасного покроя, но невыносимо пыльные, и в рубашку до того истончившуюся, что она больше напоминала эльфийскую пряжу-паутину, чем настоящую ткань и кружева.
- Мы впускаем их, потому что в противном случае они кружат неподалеку, как шакалы, и не уходят. А так они заходят, смотрят и убираются. Ты знаешь, чего они хотят.
Я кивнул. У меня не хватило мужества признаться ему, что и я хочу того же. Я так и не заставил себя не думать об этом, ни на минуту, несмотря на возвышенность того, что стряслось со мной после нашего разговора в последнюю ночь моей прошлой жизни. Я хотел его крови. Я хотел выпить ее. Я спокойно дал Луи это понять.
- Он тебя уничтожит, - прошептал Луи, моментально краснея от ужаса. Он вопрошающе посмотрел на Сибель, прижавшуюся покрепче к моей руке, и на Бенджамина, изучая его пылающими энтузиазмом глазами. - Арман, нельзя так рисковать. Один из них подошел слишком близко. Его раздавило. Быстрым, автоматическим движением. Но его рука, как оживший камень, разорвала его на кусочки прямо на полу. Не подходи к нему, и даже не думай.
- А старейшие, сильнейшие, они никогда не пробовали?
Заговорила Пандора. Она все время наблюдала за нами, держась в тени. Я и забыл, как она прекрасна - сдержанной, первозданной красотой.
Длинный густые коричневые волосы были зачесаны назад, образуя тень за тонкой шеей, она казалась глянцевитой и хорошенькой, потому что втерла в лицо темное масло, чтобы больше походить на человека. Глаза оставались дерзкими, горящими. Она обняла меня с бесцеремонностью женщины. Она тоже обрадовалась, что я жив.
- Ты знаешь, кем стал Лестат, - умоляюще сказала она. - Арман, это очаг силы, никто не знает, на что он способен.
- Но Пандора, неужели ты никогда об этом не думала? Неужели тебе никогда не приходило в голову выпить крови из его горла и отыскать образ Христа? Что, внутри него хранится неопровержимое доказательство того, что он пил божью кровь?
- Арман, - сказала она, - Христос никогда не был моим богом. - Так просто, так возмутительно, так беспрекословно.
Она вздохнула, но лишь от беспокойства за меня. Она улыбнулась.
- Я бы не стала знакомиться с твоим Христом, если бы он оказался внутри Лестата, - мягко сказала она.
- Ты не понимаешь, - ответил я. - С ним что-то случилось, случилось, пока он уходил к этому духу, Мемноку, а вернулся он с покрывалом. Я его видел. Я видел его… силу.
- Ты видел иллюзию, - доброжелательно сказал Луи.
- Нет, я видел силу, - ответил я. Через мгновение я сам усомнился в себе. Длинные коридоры истории вились как назад, так и вперед, я увидел, как бросаюсь в темноту с одной-единственной свечой в поисках написанных мной икон. И вся тривиальность, вся ее безнадежность сразила мою душу.
Я осознал, что напугал Сибель и Бенджика. Они не сводили с меня глаз.
Я обнял их обоих и притянул к себе. Перед тем, как прийти сюда, я поохотился, чтобы набраться побольше сил, и знал, что у меня приятно теплая кожа. Я поцеловал Сибель в бледные розовые губы и поцеловал Бенджика в голову.
- Арман, ты меня бесишь, правда, бесишь, - сказал Бенджи. - Ты никогда мне не говорил, что поверил в это покрывало.
- А ты, маленький мужчина, - сказал я приглушенным голосом, чтобы не устраивать спектаклю на публике. - Ты сам не заходил в собор, когда его там выставляли?
- Заходил, и скажу тебе то же, что и прекрасная леди. - Он, разумеется, пожал плечами. - Он никогда не был моим богом.
- Смотрите, рыщут, - тихо сказал Луи. Он исхудал и слегка вздрагивал.
Он пренебрег своим голодом, чтобы прийти и занять свою вахту. - Лучше я вышвырну их отсюда, Пандора, - продолжил он голосом, неспособным вселить страх даже в самую робкую душу.
- Пусть увидят то, зачем пришли, - хладнокровно, едва слышно ответила она. - Возможно, им не долго придется радоваться своему удовлетворению. Они осложняют нам жизнь, они нас позорят, они не приносят пользы никому, ни живым, ни мертвым.
Прелестная угроза, подумал я. Я надеялся, что она смела с лица земли немало им подобных, но, конечно, понимал, что многие Дети Тысячелетий считают то же самое и обо мне. Что же я за наглое существо - привести сюда посмотреть на моего друга, лежащего на полу, без какого бы то ни было разрешения, своих детей.
- Оба они среди нас в безопасности, - сказала Пандора, видимо, читая мои беспокойные мысли. - Ты же понимаешь, что они рады тебя видеть, и молодые, и старые. - Она обвела жестом всю комнату. - Некоторые не хотят выходить на свет, но они тебя знают. Они не хотели, чтобы ты погиб.
- Нет, никто не хотел, - довольно эмоционально сказал Луи. - И ты вернулся, как во сне. У нас были подозрения, некоторые шептали, что тебя видели в Нью-Йорке, красивого и полного жизни, как раньше. Но я не мог поверить, не убедившись своими глазами.
Я кивнул в знак признательности за его добрые слова. Но думал я о покрывале. Я еще раз посмотрел на резное изображение Христа на дереве, а потом опустил взгляд на спящую фигуру Лестата.
Только тогда вышел Мариус. Он дрожал.
- Живой, не обожженный, - прошептал он. - Сын мой.
Его плечи скрывал старый, жалкий, поношенный серый плащ, но в тот момент я не обратил внимания. Он сразу же обнял меня, заставив тем самым моих детей отойти. Однако далеко они не ушли. Думаю, они успокоились, увидев, что я обхватил его обеими руками и несколько раз поцеловал в лицо и в губы, по многолетней привычке. Потрясающий, исполненный мягкой любви.
- Я присмотри за этими смертными, если ты решился попробовать, - сказал он. Он прочел весь сценарий в моем сердце. Он понял, что у меня нет выбора. - Как мне тебя отговорить? - спросил он.
Я только покачал головой. От спешки и предвкушения я даже не мог ответить иначе. Я предоставил Бенджика и Сибель его заботам.
Я приблизился к Лестату и прошел прямо к нему, то есть, я стоял слева от него, он лежал от меня справа. Я быстро опустился, удивившись, что мрамор такой холодный, забыв, полагаю, как здесь сыро, в Новом Орлеане, как незаметно подкрадывается озноб.
Я оперся обеими руками об пол и посмотрел на него. Он лежал спокойно, неподвижно, оба глаза одинаково ясные, словно ни один из них никогда и не вырывали. Он смотрел, как говорится, сквозь меня, вперед, куда-то дальше, выглядывая из разума, на вид пустого, как мертвый кокон.
Его всклокоченные волосы запылились. Даже его холодная, злобная мать не причешет их, предположил я, от чего пришел в ярость, но со вспышкой ледяных эмоций она прошипела:
- Он никого к себе не подпускает, Арман. - Эхо разнесло ее далекий голос по пустой молельне. - Попробуй, сам узнаешь.
Я поднял голову. Она сидела, прислонившись к стене, небрежно обхватив руками колени. Она была в привычной прочной, выцветшей одежде цвета хаки, в узких брюках и в своей более или менее прославленной британской куртке для сафари, в пятнах, оставленных дикой природой, ее светлые волосы, такие же яркие и золотистые, как у него, заплетенной косой лежали на спине.
Внезапно она сердито поднялась и направилась ко мне, резко и непочтительно топая по полу простыми кожаными сапогами.
- С чего ты взял, будто духи, которых он видел - боги? - вопросила она. - С чего ты взял, будто выходки этих возвышенных существ, играющих с нами, стоят больше, чем детские проказы, а мы, от мала до велика - не просто звери, бродящие под земле? - Она остановилась в нескольких футах от него. Она скрестила руки. - Он ввел что-то или кого-то в искушение. Эта сущность не смогла перед ним устоять. И к чему это свелось? Говори. Ты должен знать.
- Я не знаю, - тихо ответил я. - Хоть бы ты оставила меня в покое.
- Не знаешь, разве? Так я тебе скажу, к чему это свелось. Молодая женщина по имени Дора, духовный, как говорится, лидер, проповедовавшая добро, проистекающее из ухода за слабыми и страждущими, сбилась с пути! Вот к чему все свелось - ее проповеди, основанные на благотворительности, спетые на новый лад, дабы к ним прислушались, испарились благодаря кровавому лицу кровавого бога.
Мои глаза наполнились слезами. Мне было противно, что она все так ясно увидела, но я не мог ей ответить и не мог ее заткнуть. Я поднялся на ноги.
- Они слетелись обратно в соборы, - презрительно продолжала она, - целыми кучами, вернулись к архаичной, смехотворной и абсолютно бесполезной теологии, которую ты, похоже, просто забыл.
- Я достаточно хорошо с ней знаком, - тихо сказал я. - Ты меня замучила. Что я тебе сделал? Я встал рядом с ним на колени, только и всего.
- Да, но ты хочешь большего, и твои слезы меня оскорбляют, - сказала она. Я услышал, как кто-то обратился к ней из-за моей спины, по-моему, Пандора, но я точно не знал. Внезапно во вспышке мимолетного прозрения я понял, скольких здесь развлекают мои речи, но мне было все равно.
- Чего ты ждешь, Арман? - безжалостно и коварно спросила она. Ее узкое овальное лицо было так на него похоже - и так отличалось! Он никогда не расставался до такой степени с чувством, никогда не испытывал такого абстрактного гнева, как она. - Думаешь, ты увидишь то же, что и он, или же надеешься, что кровь Христова ждет, пока ты насладишься ее вкусом? Процитировать тебе катехизис?
- Не стоит, Габриэль, - смиренно сказал я. Слезы слепили мне глаза.
- Хлеб и вино будут Телом и Кровью до тех пор, пока они останутся хлебом и вином, Арман; но как только они перестанут быть хлебом и вином, они перестанут быть Телом и Кровью. Так чего ты ждешь от крови христовой, что она сохранила волшебную силу, несмотря на мотор его сердца, пожирающий кровь смертных как воздух, которым он дышал?
Я не ответил. В душе я подумал: Это же не хлеб и вино; это его Кровь, его священная Кровь, он передал ее по пути на Голгофу тому, кто здесь лежит.
Я проглотил поглубже мою скорбь и злость на то, что она заставила меня скомпрометировать себя этими выражениями. Я хотел оглянуться на моих бедных Сибель и Бенджика, поскольку по запаху чувствовал, что они до сих пор здесь.
Что же Мариус не уведет их! Но это достаточно ясно. Мариус хочет посмотреть, что я намерен делать.
- Только не говори, - невнятно добавила Габриэль, - что дело здесь в вере. - Она усмехнулась и покачала головой. - Ты явился, как Фома неверящий, чтобы вонзить свои окровавленные клыки прямо в рану.
- Ну пожалуйста, умоляю тебя, прекрати, - прошептал я. Я поднял руки.
- Дай мне попробовать, пусть он меня ударит, тогда ты будешь довольна и отвернешься.
Я подразумевал только то, что сказал, и не ощущал в своих словах никакой силы, только смирение и невыразимую печаль.
Но ей они нанесли тяжелый удар, и впервые на ее лице отразилась всепоглощающая грусть, у нее тоже увлажнились и покраснели глаза, и, взглянув на меня, она даже поджала губы.
- Бедное заблудшее дитя, Арман, - сказала она. - Мне так тебя жаль. Я так радовалась, что ты пережил солнце.
- Так значит, я могу простить тебя, Габриэль, - сказал я, - за все жестокие слова, что ты мне наговорила.
Она задумчиво приподняла брови, а потом медленно кивнула в знак немого согласия. Потом, подняв руки, она беззвучно попятилась и заняла прежнюю позу на ступенях алтаря, откинув голову на алтарную преграду. Она, как прежде, подтянула колени и смотрела на меня, ее лицо оставалось в тени.
Я ждал. Она застыла и успокоилась, рассеявшиеся по молельне посетители не издавали ни звука. Слышно было только ровное биение сердца Сибель и взволнованное дыхание Бенджика, и то за много ярдов от меня.
Я взглянул на Лестата, остававшегося без изменений, волосы по-прежнему падали на его лицо, слегка прикрывая левый глаз. Правая рука была откинута в сторону, пальцы согнулись, он лежал без единого движения, даже легкие не дышали, даже поры.
Я снова опустился рядом с ним на колени. Я протянул руку и без колебаний отвел волосы с его лица.
Я почувствовал, как по комнате пробежала волна потрясения. Я услышал чьи-то вздохи. Но сам Лестат не шелохнулся.
Я медленно, уже более ласково расправил его волосы и к собственному немому изумлению увидел, что прямо на его лицо упала одна из моих слез.
Она была красная, но водянистая и прозрачная, и, стекая со скулы в естественную впадину под ней, совершенно исчезла. Я скользнул ближе, повернулся на бок, лицом к нему, не убирая руки с его волос. Я вытянул ноги рядом с ним и лег, уткнувшись лицом в его вытянутую руку.
Снова послышались потрясенные вздохи, и я постарался окончательно очистить свое сердце от гордыни и от всего прочего, оставив только любовь.
Она не была определенной или дифференцированной, эта любовь, просто любовь, любовь, которую я мог чувствовать к тому, кого я убивал, кому я помогал, кого я обходил на улице или к тому, кого я знал и ценил так высоко, как его.
Я и вообразить не мог всего бремени его печалей, и это понятие в моих мыслях расширилось, охватывая и нашу общую трагедию, трагедию тех, кто убивает, чтобы жить, кто процветает на смерти, пусть даже так повелела сама Земля, кто носит на себе проклятье самосознания, кто по дюймам знает, как медленно страдает, насыщая нас, все, что нас кормит, пока от него ничего не остается. Печаль. Печаль, намного превосходящая чувство вины, намного более объяснимая, печаль, слишком великая для всего мира.
Я приподнялся. Я оперся на локоть, а пальцами правой руки нежно провел по его шее. Я медленно прижался губами к его побелевшей шелковой коже и вдохнул его знакомый, характерный запах и вкус, приятный, неопределенный и удивительно личный, состоящих из смеси как его природных достоинств, так и даров, полученных впоследствии, и острыми глазными зубами я пронзил его кожу, чтобы попробовать его кровь.
Для меня не осталось ни молельни, ни возмущенных вздохов, ни почтительных вскриков. Я ничего не слышал, хотя знал, что происходит вокруг. Знал, как будто материальное помещение было лишь иллюзией, ибо реальной осталась только его кровь.
Густая, как мед, насыщенная и крепкая на вкус, сироп самих ангелов.
Я пил ее со стоном, чувствуя ее опаляющий жар, она разительно отличалась от любой человеческой крови. С каждым медленным биением его сильного сердца поступал новый приток, пока у меня не переполнился рот и мое горло не сделало самопроизвольный глоток, и его сердце застучало громче, с каждым разом ускоряясь, мои глаза заволокло красный дымкой, и в этой дымке я увидел бушующий вихрь пыли.
Из небытия возник гнусный унылый гул, смешанный я ядовитым песком, впившимся мне в глаза. Это была настоящая пустыня, древняя, полная прогорклых и заурядных вещей, пропахшая потом, грязью и смертью. Гул состоял из выкриков, эхом отлетавших от тесных тусклых стен. На одни голоса накладывались другие, хриплые взрывы брани и равнодушные сплетни заглушали даже самые резкие и ужасные крики гнева и тревоги.
Я, пробиваясь сквозь толпу, прижимался к потным телам, косые лучи солнца жгли мою вытянутую руку. Я понимал, о чем трещали вокруг, древний язык ревел и выл в моих ушах, пока я проталкивался поближе к источнику взмокшей, противной суеты, затянувшей меня в свою трясину и пытавшейся меня удержать.
Казалось, они выдавят из меня всю жизнь, оборванцы с шершавой кожей и женщины в домотканой одежде, прикрывающие лица покрывалами, толкая меня локтями и наступая мне на ноги. Что лежит впереди, я не видел. Я выбросил руки в стороны, оглушенный криками и злобным булькающим смехом, и неожиданно, словно по чьей-то воле, толпа расступилась, и я увидел огненный шедевр своими глазами.
Она стояла передо мной в рваных, окровавленных белых одеждах, та самая фигура, чье лицо я видел запечатленным в ткани покрывала. Руки толстыми неровными железными цепями прикованы к тяжелому, чудовищному кресту распятия, он сгорбился под его тяжестью, волосы струились по обе стороны его израненного, изувеченного лица. Кровь из-под шипов текла прямо в открытые, непреклонные глаза.
Мой вид явился для него неожиданностью, он даже слегка изумился. Он смотрел на меня широкими искренними глазами, словно его не окружала толпа, словно хлыст не опустился прямо на его спину, а затем - и на склоненную голову. Из-под спутанных, испачканных в запекшейся грязи волос, из-под воспаленных, окровавленных век, смотрел он вдаль.
- Господи! - воскликнул я.
Должно быть, я потянулся к его лицу, ведь это были мои руки, мои маленькие белые руки! Я увидел, как они стараются добраться до его лица.
- Господи! - повторил я.
И в ответ он посмотрел на меня, не двигаясь, наши взгляды пересеклись, его руки болтались в железных оковах, изо рта капала кровь.
Неожиданно на меня обрушился яростный, ужасный удар. Он бросил меня вперед. Мои глаза затопило его лицо. Оно выросло передо мной до крупнейших возможных масштабов - его грязная, в царапинах кожа, промокшие, потемневшие, склеившиеся ресницы, огромные яркие очи с темными зрачками.
Оно придвигалось все ближе и ближе, кровь капала на его густые брови, стекала по впалым щекам. Его рот приоткрылся. Он издал звук. Сперва это был вздох, потом - глухое ускоряющееся дыхание, оно становилось все громче и громче по мере того, как его лицо становилось все больше и больше, теряя ясные очертания, превращаясь в совокупность его плывущих оттенков, а звук перешел в положительно оглушительный рев.
Я вскрикнул от ужаса. Меня отшвырнуло назад. Но хотя теперь я различал знакомую фигуру и древний силуэт его лица в терновом венце, лицо все равно увеличивалось в размерах, удивительно нечеткое, оно опять склонилось надо мной и внезапно чуть не удушило меня своим безмерным, всеподавляющим весом.
Я закричал. Беспомощный, невесомый, я не мог дышать. Я кричал так, как не кричал за все мои жалкие годы, мой вопль вытеснил даже рев, забивший мне уши, но видение продолжало надвигаться - огромная, давящая, неотвратимая масса, что когда-то была его лицом.
- О Господи! - заорал я изо всех сил, оставшихся в моих пылающих легких. В моих ушах шумел ветер.
Что-то с такой силой ударило меня по голове, что у меня треснул череп. Я услышал треск. Я почувствовал мокрый всплеск крови.
Я открыл глаза. Я смотрел вперед. Я находился по другую сторону молельни, распростертый у покрытой штукатуркой стены, вытянув перед собой ноги, руки болтались, голова горела от боли в месте сотрясения, в том месте, где я ударился о стену.
Лестат ни разу не шелохнулся. Я знал, что он не виноват. Можно было мне этого не объяснять. Не он отбросил меня назад. Я перевернулся, упал на лицо и подложил руку под голову. Я знал, что вокруг меня собрались чьи-то ноги, что рядом Луи, что подошла даже Габриэль, и также я знал, что Мариус уводит Сибель и Бенджамина.
В звенящей тишине я слышал только тонкий, резкий смертный голос Бенджамина.
- Но что с ним случилось? Что случилось? Блондин его не трогал. Я видел. Этого не было. Он не…
Скрывая мокрое от слез лицо, я прикрыл дрожащими руками голову, и никто не видел мою горькую улыбку, хотя всхлипы слышали все.
Я плакал и плакал, долго, а потом, постепенно, как я и ожидал, рана на голове начала затягиваться. Злая кровь поднялась к поверхности кожи и, зудя, оказывала мне свою злые поддержку, сшивая плоть, как исходящий из ада лазерный луч.
Кто-то передал мне салфетку. От нее слабо пахло Луи, но полной уверенности у меня не было. Прошло много, много времени, прежде чем я наконец сжал ее и стер с лица кровь. Минул еще час, час тишины, когда народ от уважения выскальзывал из молельни, прежде чем я перевернулся, поднялся и сел у стены. Голова больше не болела, рана исчезла, присохшая кровь скоро осыплется. Я долго и тихо смотрел на него.
Мне было холодно, одиноко и плохо. Чужие бормотания не проникали в мое сознание. Я не замечал ни жесты, ни передвижения окружающих.
В святой святых моей души я перебрал, по больше части медленно, подробно, все, что я видел, все, что я слышал - все, что я тебе здесь рассказал.
Наконец я поднялся. Я вернулся к нему и посмотрел на него.Габриэль что-то сказала. Что-то резкое и грубое. Я не слышал, что именно. Я слышал звук, интонацию, как будто ее старинный французский язык, так хорошо мне знакомый, стал новым для меня наречием.
Я встал на колени и поцеловал его волосы.
Он не пошевелился. Он не изменился. Я ни на секунду этого не боялся - и не надеялся. Я еще раз поцеловал его в щеку, поднялся, вытер пальцы салфеткой, которую до сих пор сжимал в руке, и вышел.
Кажется, я долгое время простоял в оцепенении, а потом кое-что вспомнил, вспомнил, что Дора давным-давно говорила, будто на чердаке умер ребенок, рассказывала о маленьком призраке и о старой одежде.
Уцепившись за это воспоминание, крепко сжимая его, я смог подтолкнуть себя к лестнице.
Там мы с тобой через некоторое время и встретились. Теперь ты знаешь, к лучшему или к худшему, что я увидел - или чего я не увидел.
Итак, моя симфония окончена. Давай, я поставлю свое имя. Когда ты закончишь переписывать, я отдам свой экземпляр расшифровки Сибель. И, наверное, Бенджику. А с остальным можешь делать, что хочешь.
|
|
| |
|
GolDiVampire |
Дата: Среда, 09 Май 2012, 01:56 | Сообщение # 36 |

Клан Эсте/Эрц-герцогиня Фейниэль/Мисс Хогсмит 2014

Новые награды:
Сообщений: 2778
Магическая сила:












| 25
Это не эпилог. Это последняя глава повести, которую я считал завершенной. Я дописываю ее своей рукой. Она будет краткой, поскольку драматизма во мне уже не осталось, и мне следует с величайшей осторожностью обращаться со скелетом рассказа.
Возможно, попозже у меня найдутся подходящие слова, чтобы подчеркнуть мой упадок сил после всего, что случилось, но пока что я могу это лишь зарегистрировать.
Поставив подпись на копии, так тщательно записанной Дэвидом, я не ушел из монастыря. Было слишком поздно.
За разговорами прошла вся ночь, и мне, перевозбужденному после описанных мной Дэвиду событий, пришлось удалиться в одну из потайных кирпичных комнат здания, показанных мне Дэвидом, место, куда когда-то заточили Лестата; никогда еще я до такой степени не выматывался и с восходом солнца я моментально погрузился в сон.
С наступлением сумерек я поднялся, расправил одежду и вернулся в молельню. Я опустился на пол и поцеловал Лестата с нескрываемой любовью, как прошлой ночью. Я никого не замечал и даже не знал, кто там присутствовал.
Поверив Мариусу на слово, я вышел из монастыря, омытый фиолетовым светом раннего вечера, доверчиво скользя глазами по цветам, и прислушался, чтобы аккорды сонаты Сибель привели меня в нужный дом.
Через несколько секунд я услышал музыку, далекие, но быстрые фразы "Апассионаты", первой части знакомой песни Сибель.
Она звучала с непривычной звонкой четкостью, с новой апатичной интонацией, придававшей ей властный, рубиново-красное оттенок, понравившийся мне с первого звука.
Значит, я не напугал свою девочку до потери рассудка. Значит, с ней все в порядке, она благоденствует и, возможно, влюбляется, как многие из нас, в сонную душную прелесть Нового Орлеана.
Я немедленно поспешил к указанному месту и оказался, почти не испачкавшись на ветру, перед огромным трехэтажным красным кирпичным домом в Метэри, предместье Нового Орлеана, обладавшем, несмотря на близость к городу, чудесной атмосферой уединения.
Как и говорил Мариус, этот новый американский особняк со всех сторон окружали гигантские дубы, а французские двери с чистыми блестящими стеклами были настежь распахнуты навстречу раннему ветру.
Мои ноги ступали по длинной мягкой траве, а из каждого окна лился роскошный свет, такой дорогой сердцу Мариуса, как лилась и музыка "Апассионаты", в настоящий момент с удивительной грацией переходя ко второй части, Andante con motto, сначала обещающий быть более ручным сегментом произведения, но быстро присоединяется к общему безумию.
Я остановился на полпути и прислушался. Никогда еще я не слышал таких прозрачных, просвечивающих нот, таких ярких и изысканно четких. Ради чистого удовольствия я попытался определить различия между этим исполнением и остальными, что я слышал в прошлом. Они все отличались друг от друга, волшебные, глубоко задевающие душу, но этот вариант был просто, чему в определенной степени способствовали грандиозные очертания концертного рояля.
На мгновение меня охватило горестное, ужасное, цепкое воспоминание о том, что я увидел, когда прошлой ночью пил кровь Лестата. Я позволил себе, выражаясь нашим невинным языком, оживить их в памяти, а потом явственно покраснел, обнаружив приятную неожиданность - мне не придется ничего рассказывать, я все продиктовал Дэвиду, а когда он отдаст мне мои копии, я доверю их тем, кого люблю, тем, кто захочет знать, что я видел.
Что касается меня, я не собирался в этом копаться. Я не мог. Слишком сильно я чувствовал, что тот, кого я видел по пути на Голгофу, будь он настоящим или плодом моего собственного греховного сердца, не хотел, чтобы я его видел, и чудовищным образом оттолкнул меня. Я ощущал себя отвергнутым до такой степени, что едва мог поверить, будто смог описать это Дэвиду.
Нужно было выбросить эти мысли из головы. Я наложил запрет на всяческие отзвуки этих переживаний и снова отдался музыке Сибель, просто стоя под дубами на извечном речном ветру, от которого в этих местах не скрыться - он охлаждал меня, успокаивал и заставлял чувствовать, что земля полна неукротимой красоты, даже для такого, как я.
Музыка третьей части достигла своей блистательной кульминации, и я решил, что у меня разорвется сердце.
Только тогда, когда отзвучали финальные аккорды, я осознал то, что было очевидным с самого начала.
Не Сибель играла ту музыку. Не Сибель. Я знал каждый нюанс трактовок Сибель. Я знал ее способы выражения; я знал качество тона, неизбежно производимое ее неповторимыми прикосновениями. Хотя ее интерпретации оставались бесконечно спонтанными, я, тем не менее, знал ее музыку, как знают чужой стиль письма или особенности работы художника. Это была не Сибель.
И тогда меня осенила настоящая истина. Это была Сибель, но Сибель стала уже не Сибель.
В первую секунду я не мог в это поверить. Сердце остановилось у меня в груди. Потом я вошел в дом ровным, неистовым шагом, который не остановится ни перед чем, чтобы выяснить правду о том, что мне показалось.
Через мгновение я все увидел своими глазами. Они собрались все вместе в великолепной комнате, прекрасная гибкая фигура Пандоры в коричневом шелковом платье, подпоясанном на талии в старинном греческом стиле, Мариус в светлом бархатном смокинге и шелковых брюках, и мои дети, мои прекрасные дети, светящийся Бенджи в своем белом одеянии, бешено танцующий по комнате босиком, растопыривая пальцы, словно стараясь ухватить ими воздух, и Сибель, моя потрясающая Сибель, тоже с обнаженными руками, в платье из ярко-розового шелка, откинувшая за плечи длинные волосы, сидящая у рояля, как раз переходя к первой части. Все вампиры, все до единого.
Я плотно стиснул зубы и прикрыл рот, чтобы мои крики не разбудили весь мир. Я кричал и ревел в сжатые ладони.
Я выкрикивал один единственный слог отрицания - Нет, нет, нет, повторяя его вновь и вновь. Я больше ничего не мог произнести, больше ничего не мог кричать, больше ничего не мог делать. Я кричал и не мог остановиться.
Я так плотно закусил губы, что у меня заболела челюсть, руки затряслись, как птичьи крылья, неспособные достаточно плотно заткнуть мне рот, а из глаз опять хлынули слезы, густые, как тогда, когда я поцеловал Лестата. Нет, нет, нет! Внезапно я раскинул руки, сжав их в кулаки, и мой рев уже готов был вырваться на свободу, взорваться бушующим потоком, но Мариус с силой схватил меня, стремительно прижал к себе и уткнул лицом себе в грудь.
Я пытался вырваться. Я изо всех сил пинал его и колотил кулаками.
- Как ты мог! - ревел я.
Его руки поймали мою голову в безнадежную западню, его губы покрывали меня противными, ненавистными поцелуями, от которых я отчаянно отбивался.
- Как ты мог? Как ты посмел? Как ты мог? - В конце концов я обрел достаточно пространства, чтобы иметь возможность наносить ему удар за ударом.
Но что толку? Как слабы и бессмысленны мои удары против его силы. Как беспомощны, глупы и мелочны мои жесты, а он стоял и сносил их с невыразимо печальным лицом, с сухими, но полными заботы глазами.
- Как ты мог, ну как же ты мог? - спрашивал я. Я не мог остановиться.
Но внезапно Сибель оторвалась от рояля и побежала ко мне, протягивая руки. Бенджи, следивший за всей этой сценой, тоже помчался ко мне, и они нежно заключили меня в оковы своих хрупких рук.
- Ну Арман, не злись, не надо, не расстраивайся, - мягко выкрикивала Сибель мне в ухо. - Мой замечательный Арман, не расстраивайся, не надо. Не вредничай. Мы с тобой навсегда.
- Арман, мы с тобой! Он сделал чудо! - закричал Бенджи. - Не обязательно рождаться из черных яиц, ах ты дибук, рассказал нам такую сказку! Арман, мы теперь никогда не умрем, никогда не заболеем, нас никто не обидит, нам нечего больше бояться! - Он подпрыгнул от восторга, закружился в новом вихре веселья, изумляясь и смеясь от своей новообретенной энергии, что он может прыгнуть так высоко и так грациозно. - Арман, мы так счастливы!
- О да, пожалуйста, - кричала Сибель своим более глубоким и более нежным голоском. - Мы так тебя любим, Арман, я так тебя люблю, так люблю. Мы не могли иначе. Не могли. Мы не могли иначе, мы хотели быть с тобой всегда, навсегда.
Мои пальцы нависли над ней, желая ее утешить, но она отчаянно зарылась лбом в мою шею., крепко обхватив меня вокруг груди, и я не мог до нее дотронуться, не мог ее обнять, не мог ее приободрить.
- Арман, я тебя люблю, я тебя обожаю, Арман, я живу только ради тебя, а теперь мы навсегда вместе, - сказала она.
Я кивнул, пытаясь заговорить. Она поцеловала мои слезы. Она целовала их быстро и отчаянно.
- Прекрати, прекрати плакать, не плачь, - повторяла она тихим, настойчивым шепотом. - Арман, мы тебя любим.
- Арман, мы так счастливы! - закричал Бенджи. - Смотри, Арман, смотри! Теперь мы вместе будет танцевать под ее музыку. Мы все сможем делать вместе. Арман, мы уже поохотились! - Он подлетел ко мне и согнул ноги в коленях, готовясь прыгнуть от возбуждения, как бы подчеркивая смысл своих слов. Потом он вздохнул и снова протянул ко мне руки. - Бедняга Арман, ты весь неправильный, ты живешь не теми мечтами. Арман, ты что, не понял?
- Я люблю тебя, - прошептал я неслышным голосом Сибель на ухо. Я повторил эти слова, и мое сопротивление было сломлено, я нежно прижал ее к себе и потрогал неистовыми пальцами ее шелковую белую кожу и звенящие, тонкие, блестящие волосы. Не отпуская ее, я прошептал: - Не дрожи, я люблю тебя, я люблю тебя.
Левой рукой я вцепился в Бенджика.
- А ты, разбойник, ты все мне расскажешь, со временем. А пока что дай, я тебя обниму. Дайте мне обнять вас обоих.
Меня трясло. Это меня трясло, а не их. Они снова окружили меня со всей своей нежностью, стараясь меня согреть.
Наконец, похлопав каждого из них по плечу, поцеловав их на прощанье, я отступил и в изнеможении упал в большое старое бархатное кресло.
У меня болела голова, я чувствовал, как подступают слезы, но я проглотил их изо всех сил - ради них. У меня не оставалось выбора.
Сибель вернулась к роялю и, ударив по клавишам, опять приступила к сонате. На этот раз она пропела ноты красивым, низким сопрано, а Бенджи снова принялся танцевать, кружась, прохаживаясь, топая босой ногой в такт темпу Сибель.
Я наклонился и сжал голову руками. Мне хотелось, чтобы мои волосы опустились как можно ниже и скрыли меня от всеобщих глаз, но, несмотря на густоту, это были всего лишь волосы.
Я почувствовал на своем плече чью-то руку и напрягся, но не мог произнести ни слова, иначе я заново начал бы во весь голос кричать и ругаться. Я молчал.
- Я не жду, что ты меня поймешь, - тихим голосом сказал он.
Я выпрямился. Он сидел рядом со мной, на подлокотнике кресла. Он смотрел на меня сверху вниз.
Я сделал приятное лицо, выдавил даже лучезарную улыбку, и заговорил таким безмятежным и бархатным голосом, что никто не заподозрил бы, будто мы обсуждаем что-то помимо любви.
- Как ты мог? Зачем ты это сделал? Неужели ты настолько меня ненавидишь? Не лги мне. Не говори мне глупости, сам знаешь, я в них никогда, никогда не поверю. Не обманывай меня, ради Пандоры, ради них. Я всегда буду заботиться о них, я всегда буду их любить. Но не лги. Ведь ты же сделал это из мести, господин, ты сделал это из ненависти?
- О чем ты? - спросил он прежним голосом, выражавшим сплошную любовь, и можно было подумать, что его искреннее, умоляющее лицо говорит со мной голосом самой любви. - Если я когда-нибудь делал что-то из любви, я сделал это сейчас. Я сделал это из-за всех несправедливостей, выпавших на твою долю, из за пережитого тобой одиночества, из-за кошмаров, которые мир обрушил на тебя, когда ты был слишком молод и неопытен, чтобы им противостоять, а потом - слишком подавлен, чтобы сопротивляться от всего сердца. Я сделал это ради тебя.
- Нет, ты лжешь, ты лжешь в своей душе, - сказал я, - если не на словах. Ты сделал это из злобы, и сейчас дал мне это понять со всей ясностью. Ты сделал это из злобы, потому что из меня получился не такой вампир, каким ты хотел меня видеть. Я не стал здравомыслящим бунтарем, способным противостоять Сантино и его банде чудовищ, и именно я, через столько веков, еще раз разочаровал тебя, ужасно разочаровал - ведь я ушел на солнце, увидев покрывало. Вот почему ты так поступил. Ты сделал это из мести, ты сделал это из разочарования, а венец ужаса - в том, что ты сам ничего не понимаешь. Ты не мог снести, что у меня чуть не разорвалось сердце, когда я увидел на покрывале его лицо. Ты не мог пережить, что ребенок, которого ты вырвал из венецианского борделя, которого ты вскормил своей кровью, которого ты учил по своим книгам, своими руками, воззвал к нему, увидев его лицо на покрывале.
- Нет, это настолько далеко от истины, что ты разрываешь мне душу. - Он покачал головой. Несмотря на белизну и отсутствие слез, его лицо было совершенным воплощением печали, как картины, написанные его собственными руками. - Я сделал это, потому что они любят тебя, как никто еще тебя не любил, потому что они свободны, а в глубине из благородных сердец кроется глубокое коварство, не дающее им отшатнуться от тебя, такого, какой ты есть. Я сделал это, потому что они выкованы в той же печи, что и я, оба обладают острым умом и силой, способностью выжить. Я сделал это, потому что ее не поработило безумие, а его не поработила бедность и невежество. Я сделал это, потому что они были твоими избранниками, идеально подходили тебе, а я понимал, что сам ты этого не сделаешь, и они в конце концов возненавидят тебя, возненавидят, как ты ненавидел меня за отказ, и ты скорее потеряешь их из-за отчуждения и смерти, чем уступишь.
Теперь они твои. Ничто вас не разлучит. И он до краев наполнены моей кровью, древней, могущественной, чтобы стать твоими достойными спутниками, а не бледной тенью твоей души, как Луи.
Вас не разделит барьер создателя и порожденного им вампира, и ты сможешь узнавать тайны их сердец, как они смогут узнавать твои тайны.
Мне хотелось в это поверить.
Мне так сильно хотелось в это поверить, что я поднялся и ушел от него, ласково улыбнувшись моему Бенджамину и украдкой поцеловав ее, проходя мимо, я удалился в сад и встал в одиночестве между парой массивных дубов.
Их громовые корни поднимались из земли, образуя холмики из твердого, покрытого волдырями дерева. Я устроился на этом каменистом месте и положил голову на ствол ближнего из двух деревьев.
Его ветви опустились и укрыли меня, как вуаль, чего я хотел добиться от своих личных волос. Стоя в тени я чувствовал себя защищенным, чувствовал, что нахожусь в безопасности. Сердце мое успокоилось, но сердце мое было разбито, и мой рассудок пошатнулся, и мне довольно было заглянуть в открытую дверь, в блистательный яркий свет на моих двух белых вампирских ангелков, чтобы опять заплакать.
Мариус долго стоял в далеком дверном проеме. Он на меня не смотрел. Я взглянув на Пандору, я увидел, что она свернулась, словно старалась защититься от какой-то ужасной муки - возможно, всего лишь от нашей ссоры, в другом большом бархатном кресле.
Наконец Мариус собрался и подошел ко мне, думаю, на это ему потребовалось немалое усилие воли. У него на лице внезапно появилось несколько сердитое и даже гордое выражение. Мне было наплевать.Он встал передо мной, но ничего не говорил и, казалось, собрался стойко выслушать все, что я скажу.
- Почему ты не дал им прожить свои жизни? - спросил я. - Не кто-нибудь, а ты, что бы ты ни чувствовал по отношению ко мне и к моим недомыслием, почему ты не дал им пользоваться тем, что подарила им природа? Зачем ты вмешался?
Он не ответил, не я и не дал ему такой возможности. Смягчив свой тон, чтобы не беспокоить их, я продолжил.
- В самые темные времена, - сказал я, - меня всегда поддерживали только твои слова. Нет, я не говорю о тех веках, когда я был пленником искаженных вероучений и мрачных заблуждений. Я говорю о том, что было намного позже, после того, как я, подстрекаемый Лестатом, вышел из подземелья, когда я прочел, что написал о тебе Лестат, а потом выслушал тебя своими ушами. Это ты, господин, заставил меня увидеть все, что я мог, в чудесном ярком мире, разворачивающимся вокруг меня так, как я и не представлял себе в той стране или в те времена, в
которые я родился.
Я не мог сдерживаться. Я остановился передохнуть и послушать ее музыку, и, осознав, как она прекрасна, жалобна, выразительна и по-новому загадочна, я чуть не заплакал. Но я не мог себе этого позволить. Я думал, что мне необходимо сказать намного больше.
- Господин, это ты сказал, что мы движемся вперед в том мире, где отмирают старые религии, суеверные и жестокие. Это ты сказал, что мы живем в эпоху, когда злу больше не отводится необходимого места. Вспомни, господин, ты же сказал Лестату, что никакое вероучение или кодекс не может оправдать наше существование, ибо людям теперь известно, что такое настоящее зло - это голод, нужда, невежество, война, холод. Ты сам так сказал, господин, сказал намного элегантнее и полнее, чем я способен выразить, но именно на этих грандиозных рациональных оснований ты спорил с самой ужасной из нас, ради святости и драгоценной красоты этого естественного мира, мира людей. Это ты отстаивал человеческую душу, утверждая, что она растет как в плане глубины, так и в плане чувства, что люди живут теперь не ради блеска войны, что они познали прекрасные вещи, ранее доступные лишь богачам, а теперь принадлежат всем. Ты сам говорил, что после темных веков кровавых религий появился новый свет, свет разума, этики и неподдельного сострадания, и он не только освещает, но и согревает.
- Прекрати, Арман, замолчи, - сказал он. Он говорил мягко, но строго.
- Я помню эти слова. Я помню каждое из них. Но я больше в это не верю.
Я был потрясен. Я был потрясен монументальной простотой этого отречения. Оно простиралось вне пределов моего воображения, но я достаточно хорошо его знал, чтобы понимать - каждое слово он говорит всерьез. Он спокойно посмотрел на меня.
- Да, когда-то я в этом верил. Но, понимаешь, эта вера основывалась не на логике и наблюдениях за человечеством, в чем я себя убедил. Но я заблуждался, и когда я в конце концов это осознал, когда я увидел, что это на самом деле - слепой, отчаянный, нелогичный предрассудок - моя вера внезапно рухнула и разбилась вдребезги.
Арман, я говорил так, потому что считал, что говорю правду. Это было своего рода кредо, кредо разума, кредо эстетики, кредо логики, кредо искушенного римского сенатора, закрывающего глаза на тошнотворную реальность окружающего мира, потому что если бы он признался себе в том, что открывается ему в низости его братьев и сестер, он сошел бы с ума.
Он перевел дух и продолжал, повернувшись спиной к яркой комнате, загораживая юных вампиров от своих обжигающих слов, а я, безусловно, только этого и хотел.
- Я знаю историю, я читал ее, как другие читают Библию, я не мог успокоиться, пока не вытащу на свет все, что когда-либо было написано, все, что можно познать, пока не расшифрую кодексы всех культур, оставивших мне полные ложных надежд свидетельства, которые я смогу высмотреть в камне, в земле, в папирусе или в глине.
Но в своем оптимизме я заблуждался, я был невежествен, невежествен, как и все, кого я обвинял в этом, я отказывался окунуться окружавшие меня кошмары, достигшие в этот век, в этот век разума своего апогея.
Оглянись назад, дитя, если хочешь, если ты собираешься со мной спорить. Оглянись на золотой Киев, знакомый тебе только по песням после того, как бешеные монголы сожгли его соборы и истребили население, как скот, чем они занимались по всей Киевской Руси на протяжении двухсот лет. Оглянись на летопись всей Европы - видишь, повсюду бушуют войны, в Святой Земле, в лесах Франции или Германии, в плодородных землях Англии, да, благословенной Англии, в каждом уголке Азии.
Почему же я так долго занимался самообманом? Разве я не видел те русские степи, те спаленные города? Ведь вся Европа могла пасть под силой Чингиз-хана. Подумай о великих английских соборах, превращенных в груды камней самонадеянным королем Генрихом.
Подумай о книгах народа майя, брошенных в огонь испанскими священниками. Инки, ацтеки, ольмеки - все эти народности ушли в небытие…
Цепь кошмаров, кошмар за кошмаром, и так было всегда, и больше притворяться я не могу. Когда я вижу, как миллионы погибают в газовых камерах по прихоти маньяка-австрийца, когда я вижу, как истребляют целые африканские племена, забивая целые реки разбухшими трупами, когда я вижу, как бушующий голод охватывает целые страны в век изобилия для обжор, я не могу продолжать верить в эти пошлости.
Не знаю, какое конкретно событие разбило мой самообман. Не знаю, какой конкретно ужас сорвал маску с моей лжи. Были ли это миллионы голодающих на Украине, заключенные в ней по воле их собственного диктатора, или же пришедшие за ними тысячи людей, погибших, когда в небеса над степью извергнулась ядерная отрава, защиты от которой им не предоставило то самое правительство, что заставляло их голодать? Были ли это монастыри благородного Непала, цитадели медитации и милосердия, простоявшие тысячи лет, старше, чем я сам и моя философия, уничтоженные армией алчных, хватких милитаристов, развязавших безжалостную войну с монахами в шафрановых одеждах, бесценные книги, брошенные в огонь, древние колокола, расплавленные, чтобы никогда больше не призывать кротких людей к молитве? А случилось это всего за два десятилетия до этого самого часа, пока народы запада танцевали на дискотеках и лакали коктейли, небрежно сокрушаясь между собой по поводу бедного, несчастного Далай Ламы и переключая телевизионный канал.
Не знаю, что именно - китайцы, японцы, камбоджийцы, евреи, украинцы, поляки, русские, курды, о Господи, этой песне нет конца. У меня не осталось веры, у меня не осталось оптимизма, у меня не осталось твердых убеждений в плане логики и этики. Мне не за что было упрекнуть тебя, когда ты встал на ступенях собора, протягивая руки к своему всезнающему и всемогущему Богу.
Я ничего не знаю, потому что я знаю слишком много, но понимаю очень мало и никогда не пойму. Но и ты, и все, кого я знал, научили меня, что любовь есть необходимость, как дождь необходим цветам и деревьям, как пища - голодным детям, как кровь - голодным хищникам и падальщикам, то есть нам. Нам нужна любовь, и любовь, как ничто другое, может заставить нас забыть и простить любое зверство.
Поэтому я извлек из прославленного, манящего перспективами современного мира с толпами больных и отчаявшихся. Я извлек их оттуда и отдал им единственную силу, которой я обладаю, и сделал я это ради тебя. Я дал им время, время, чтобы, возможно, найти ответ, которого живые смертные могут никогда не узнать.
Вот и все. Я знал, что ты будешь кричать, я знал, что ты будешь страдать, но при этом я знал, что ты примешь их, и, когда все кончится, будешь их любить, я знал, что они тебе отчаянно нужны. Вот ты и воссоединился… со змеем, львом и волком, и они намного выше худших из людей, проявивших себя в эти времена колоссальными чудовищами, они вольны осторожно питаться миром зла.
Повисла пауза.
Я долго думал, прежде чем кидаться в речи. Сибель прекратила играть, я знал, что она волнуется за меня, что я нужен ей, я чувствовал, чувствовал сильный толчок ее вампирской души. Придется пойти к ней, и скоро. Но я остановился, чтобы произнести еще несколько слов:
- Тебе следовало бы доверять им, господин, тебе следовало позволить им воспользоваться своим шансом. Что бы ты ни думал о мире, ты должен был дать им время. Это был их мир и их эпоха.
Он покачал головой, как будто разочаровался во мне, немного устало, словно он давно уже разрешил для себя все эти вопросы, возможно, еще до моего вчерашнего появления, казалось, он хочет выкинуть это из головы.
- Арман, ты навсегда останешься моим сыном, - сказал он с великим достоинством. - Все, что есть во мне волшебного и божественного, связано с человеческим, так было всегда.
- Ты должен был дать им возможность прожить свой час. Никакая моя любовь не могла подписать им смертный приговор или допуск к нашему странному, необъяснимому миру. По твоим оценкам, мы, может быть, и не хуже людей, но ты мог бы и сдержать свое слово. Мог бы оставить их в покое.
Достаточно.
К тому же, появился Дэвид. Он принес копию расшифровки, над которой мы работали, но не это его волновало. Он приблизился к нам медленно, явно возвещая о своем присутствии, давая нам возможность замолчать, что мы и сделали.
Я повернулся к нему, не в состоянии сдерживаться.
- Ты знал, что это произойдет? Ты понял, когда это случилось?
- Нет, - торжественно ответил он.
- Спасибо, - сказал я.
- Ты нужен им, твоим детям, - добавил Дэвид. - Мариус может быть создателем, но они всецело твои.
- Знаю, - сказал я. - Я иду. Я сделаю все, что нужно. - Мариус протянул руку и дотронулся до моего плеча. Вдруг я осознал, что его выдержка находится на грани. Когда он заговорил, его голос дрожал и светился от чувства.
Ему ненавистна была буря в его душе, моя печаль лишила его самообладания. Я прекрасно это понимал. Удовлетворения мне это не принесло.
- Ты меня презираешь, возможно, ты прав. Я знал, что ты будешь плакать, но в некотором глубинном смысле я неправильно судил о тебе. Я кое-чего в тебе не понял. Может быть, я никогда не понимал.
- Чего же, господин? - ядовито спросил я.
- Ты любил их самоотверженной любовью, - прошептал он. - Все их странные недостатки, дикие пороки не компрометировали их в твоих глазах. Ты любил их, возможно, с большим уважением, чем я… чем я любил тебя. - Он выглядел ужасно потрясенным.
Я мог только кивнуть. Я вовсе не был уверен, что он прав. Моя потребность в них никогда не подвергалась проверке, но я не собирался ему об этом рассказывать.
- Арман, - сказал он, - ты же понимаешь, ты можешь оставаться здесь, сколько хочешь.
- Хорошо, потому что, наверное, придется, - сказал я. - Им здесь нравится, а я устал. Поэтому большое тебе спасибо.
- Еще кое-что, - продолжал он, - и я говорю от чистого сердца.
- Что, господин? - спросил я.
Дэвид стал рядом, чему я очень радовался, так как он служил своего рода сдерживающим фактором для моих слез.
- Я искренне не знаю ответа, и спрашиваю тебя со всем смирением, - сказал Мариус. - Увидев покрывало, что ты увидел на самом деле? Нет, я не спрашиваю, был ли то Христос, был ли то Господь, было ли то чудо. Я хочу знать следующее. Там было пропитанное кровью лицо существа, положившего начало религии, виновной в таком количестве насилия, которого не знало ни одно вероисповедание мира. Пожалуйста, не злись на меня, просто объясни. Что ты увидел? Просто потрясающее напоминание о твоих иконах? Или же на самом деле оно действительно было пропитано любовью, а не кровью? Объясни мне. Мне искренне хотелось бы знать, если это не кровь, а любовь.
- Ты задаешь старый и простой вопрос, - сказал я, - а в моем настоящем положении я совсем ничего не знаю. Тебе интересно, как он мог стать моим Господом, учитывая твое описание мира, твои знания Евангелий и заветов, изданных во имя него. Тебе интересно, как я мог поверить во все это, когда ты в это не веришь, я прав?
Он кивнул.
- Да, мне интересно. Потому что я тебя знаю. И знаю, что вера - это как раз то, чем ты просто не обладаешь.
Эти слова меня потрясло. Но я мгновенно понял, что он не ошибся. Я улыбнулся. Внезапно я ощутил прилив трагического волнующего счастья.
- Что ж, я понял, о чем ты говоришь, - сказал я. - И я дам тебе свой ответ. Я увидел Христа. Некий кровавый свет. Личность, человека, силу - я почувствовал, что узнал его. И он не был Господом Богом, Отцом Всемогущим, он не был создателем вселенной и всего мира. Он не был Спасителем, он не был тем, кто явился ради искупления грехов, начертанных в моей душе до моего рождения. Он не был вторым лицом Святой Троицы, он не был теологом, вещающим со Святой горы. Для меня он был не таким. Для других - может быть, но не для меня.
- Так кем же он был, Арман? - спросил Дэвид. - Я записал твою историю, полную чудес и страданий, но я так и не понял. Какова концепция Господа, которую ты вкладываешь в это слово?
- Господь, - повторил я. - Это не то, что ты думаешь. Это произносится с интимностью, с теплотой. Это тайное, священное имя. Господь. - Я сделал паузу, а потом продолжил:
- Да, он - Господь, но лишь потому, что он является символом понятия бесконечно более доступного, бесконечно более значительного, чем правитель, король или властелин.
Я снова заколебался, подыскивая подходящие слова, раз уж они вели себя так искренне.
- Он был… моим братом, - сказал я. - Да. Вот кем он был, моим братом, символом всех братьев, и поэтому в его основе лежит только любовь. Вы относитесь к этому с презрением. Вы смотрите на меня с неодобрением. Но вам не постичь сложность того, кем он является на самом деле. Это легко почувствовать, но нелегко увидеть. Он был таким же человеком, как я. И, может быть, для многих из нас, для миллионов, другого понятия просто не существовало! Все мы - чьи-то сыновья и дочери, и он был чьим-то сыном. Он был человеком, неважно, Богом или нет, он страдал и считал, что делает это ради того, что казалось ему чистым, универсальным добром. И тем самым его кровь могла быть и моей кровью. Ведь иначе и быть не может. И, может быть, для тех, кто мыслит, как я, в этом и заключается источник его величия. Ты сказал, что я не обладаю верой. Не обладаю. Верой в титулы, в легенды, в иерархии, созданные такими же людьми, как мы. Сам он не определял иерархию, нет. Он сам и был сутью. В нем я увидел величие по очень простым причинам! Его существо состояло из плоти и крови! Оно может быть и хлебом с вином, чтобы накормить целую землю. Вам этого не понять. Не получится. В вашем поле зрения плавает слишком много лжи о нем. Я видел его до того, как услышал о нем все эти истории. Я видел его, глядя на иконы в своем доме, видел, когда рисовал его, тогда я даже не знал всех его имен. Я не могу не думать о нем. Никогда не мог. И никогда не смогу.
|
|
| |
|
GolDiVampire |
Дата: Среда, 09 Май 2012, 01:57 | Сообщение # 37 |

Клан Эсте/Эрц-герцогиня Фейниэль/Мисс Хогсмит 2014

Новые награды:
Сообщений: 2778
Магическая сила:












| Больше мне сказать было нечего.
Они очень удивились, но отнеслись к моим словам без особенного уважения, скорее всего, воспринимая неправильно каждое слово, откуда мне было знать? В любом случае, что бы они ни чувствовали, это не имело абсолютно никакого значения. Ничего хорошего в том, что они задали мне свои вопросы, что я так старался раскрыть им свою истину, не было. Мысленно я видел старую икону, ту, что мать принесла мне в снегу. Воплощение. Их философия такого не объяснит. Я задумался. Может быть, весь ужас моей жизни сводился к тому, что, что бы я ни делал, куда бы я ни шел, я всегда понимал. Воплощение. Кровавый свет.
Мне хотелось, чтобы теперь они оставили меня в покое.
Меня ждала Сибель, что намного важнее, и я пошел заключить ее в объятья.
Много часов проговорили мы, Сибель, Бенджи и я, под конец и Пандора, ужасно расстроенная, но ни словом не давая этого понять, пришла к нам, чтобы поддержать легкомысленную, веселую беседу. К нам присоединился Мариус, а потом и Дэвид.
Мы собрались в круг на траве, под звездами. Ради молодежи я изобразил самое храброе лицо, и мы заговорили о прекрасных вещах, о местах, куда мы отправимся, о чудесах, увиденных Мариусом и Пандорой, а периодически пускались спорить о всяких пустяках.
Часа за два до рассвета мы разошлись, Сибель забралась глубоко в сад и с величайшим вниманием рассматривала по очереди каждый цветок. Бенджи обнаружил, что может читать со сверхъестественной скоростью, и переворачивал библиотеку вверх дном, чем произвел на всех большое впечатление.
Дэвид, устроившись за письменным столом Мариуса, исправлял опечатки и сокращения в расшифровке, усердно редактируя копию, сделанную им для меня в спешке.
Мы с Мариусом сидели совсем рядом, плечом к плечу, прислонившись к тому самому дубу. Мы не разговаривали. Мы наблюдали за окружающим, может быть, слушали одну и ту же песнь ночи. Я хотел, чтобы Сибель еще поиграла. Я не помнил, чтобы она так долго не играла, и мне ужасно хотелось послушать, как она заново сыграет сонату.
Первым необычный звук услышал Мариус, он встревожено выпрямился, но передумал и опять прислонился к стволу рядом со мной.
- Что случилось? - спросил я.
- Просто какой-то шум. Я не смог… не смог его определить, - сказал он и прислонился ко мне плечом, как раньше.
Практически одновременно Дэвид оторвал взгляд от работы. Появилась Пандора - она медленно, но настороженно двигалась к одной из освещенных дверей.
Теперь и я расслышал тот звук. И Сибель, поскольку она тоже взглянула по направлению к воротам сада. Даже Бенджи в результате соблаговолил его заметить, он уронил книгу на середине фразы и зашагал, сурово нахмурившись, к двери, чтобы оценить ситуацию и взять ее под контроль.
Сначала мне показалось, что меня подводит зрение, но очень быстро я опознал фигуру, возникшую за воротами, открывшимися и тихо закрывшиеся за ее жесткой, неловкой рукой.
При приближении он хромал, или, скорее, напоминал жертву усталости и отсутствия практики в простом действии ходьбы; он вышел на свет, падавший у наших ног на траву. Я был потрясен. О его намерениях никто не подозревал. Никто не двигался. Это был Лестат, в лохмотьях, грязный, как на полу молельни. Насколько я мог судить, от его головы не исходила ни одна мысль, а глаза казались мутными, полными изнурительного удивления. Он встал перед нами, глядя перед собой, и когда я поднялся на ноги, вскарабкался, чтобы его обнять, он приблизился ко мне и зашептал мне на ухо.
Он говорил неверным, слабым от отсутствия практики голосом, очень тихо, и его дыхание касалось моей кожи.
- Сибель, - сказал он.
- Да, Лестат, что, что - Сибель, скажи мне. - Я сжал его руки так крепко и любяще, как только смог.
- Сибель, - повторил он. - Как ты думаешь, если ты ее попросишь, она не сыграет мне сонату? "Апассионату"?
Я отодвинулся и заглянул в его неясные, сонные голубые глаза.
- О да, - сказал я, едва дыша от возбуждения и нахлынувшего чувства. - Лестат, я уверен, что сыграет. Сибель!
Она уже повернулась. Она в изумлении следила, как он медленно пересек лужайку и вошел в дом. Пандора отошла, уступая ему дорогу, и мы в почтительном молчании наблюдали, как он садится у рояля, спиной к правой передней ножке, подтягивает повыше колени и устало кладет голову на скрещенные руки. Он закрыл глаза.
- Сибель, - попросил я, - ты ему не сыграешь? “Апассионату”, еще раз, пожалуйста, если можно.
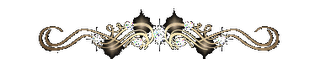
Что-то правил GolDiVampire - Среда, 09 Май 2012, 02:01 |
|
| |






 ]
]





 ]
]